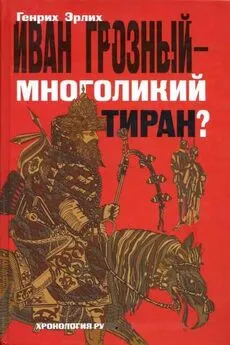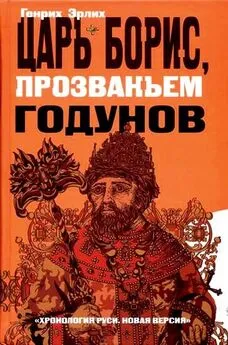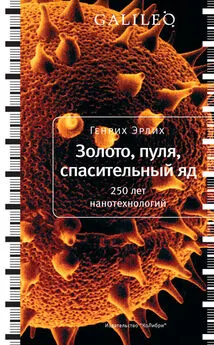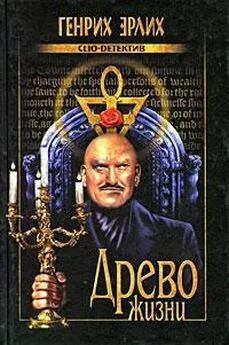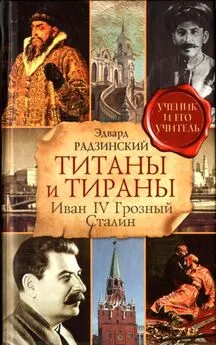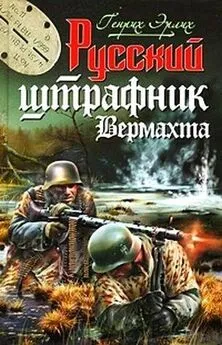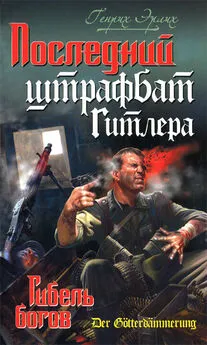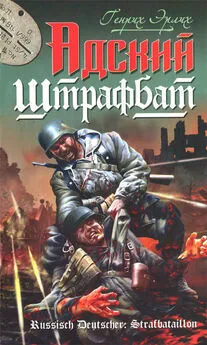Генрих Эрлих - Иван Грозный — многоликий тиран?
- Название:Иван Грозный — многоликий тиран?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Издательство «Яуза», ООО «Издательство «Эксмо»
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-699-17424-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Генрих Эрлих - Иван Грозный — многоликий тиран? краткое содержание
Книга Генриха Эрлиха «Иван Грозный — многоликий тиран?» — литературное расследование, написанное по материалам «новой хронологии» А.Т. Фоменко. Описываемое время — самое загадочное, самое интригующее в русской истории, время правления царя Ивана Грозного и его наследников, завершившееся великой Смутой. Вокруг Ивана Грозного по сей день не утихают споры, крутые повороты его судьбы и неожиданность поступков оставляют широкое поле для трактовок — от святого до великого грешника, от просвещенного европейского монарха до кровожадного азиатского деспота, от героя до сумасшедшего маньяка. Да и был ли вообще такой человек? Или стараниями романовских историков этот мифический персонаж «склеен» из нескольких реально правивших на Руси царей?
Иван Грозный — многоликий тиран? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Они тогда чего придумали: стали новую присягу принимать, на верность царю и роду его, под которым они только себя уже понимали. Обычная присяга: не злоумышлять ни словом, ни делом, служить верно, других государей не искать, в Литву и иные государства не отъезжать и все такое прочее, вот только присяга та была тайной, и приносили ее лишь избранные, которых сами же Захарьины и определяли. А так как они никому, даже самим себе, не доверяли, то, собравшись семейным кругом, все одновременно и присягнули, и подписи свои под той грамоткой поставили. Допускаю, что на сборище том тайном они еще о чем-нибудь договорились и в том поклялись, но я того не ведаю, ибо меня туда не звали. Только и донесли мне люди добрые, что были там Василий Михайлович Захарьев-Юрьев, Василий да Иван Яковлевы-Захарьины, Григорий Юрьевич Захарьин, да Никита Романович и Даниил Романович, братья покойной царицы Анастасии.
А уж потом Захарьины у других присягу приняли: у князя Ивана Мстиславского, у боярина Федора Умного-Колычева, у князей худородных Андрея Телятевского да Петра Горенского, у воеводы Алексея Басманова. Так они свою Избранную раду собрали. Они вообще много с Иванова правления копировали, не могущие сами ничего придумать, кроме интриг и пакостей, вот только отражение получалось как в кривом зеркале, когда смешно, а когда и страшно.
Вскоре без такой присяги письменной никто не мог никакого места хорошего в державе русской получить. Мало было Захарьиным крестоцеловальной записи, они еще поручительств требовали — друзья и родственники бояр и князей ручались за них, что не преступят присяги и служить верно будут. И ручались не честным словом, как издревле на Руси православной заведено было, а имуществом своим. А потом придумали требовать поручительств за поручителей, так всю страну сетью невидимой оплели, каждого в любой момент виноватым можно было объявить и имущество его отобрать. И объявляли, и отбирали. Вот, скажем, князь Иван Вельский, глава Думы боярской, вдруг взял да и признался, что он с королем польским ссылался и к нему бежать навострился. Пришлось поручителям десять тысяч рублей в казну выложить и, затянув пояса, приняться копить новые в ожидании следующего неожиданного признания. Зачем князь Иван это сделал, мне неведомо, но думаю, что Захарьины с Вельским поделились, да Фуников, вор известный, себе немного отщипнул. Большие ли это деньги — десять тысяч рублей? Да как вам сказать; не маленькие, так, полугодовая дань с Ливонии, из-за которой якобы война началась.
Вот и опять до Ливонии добрались. Там разгон Избранной рады сильнее всего сказался, сразу же после гибели Адашева все пошло вкривь и вкось.
Новый магистр ордена Ливонского Готгард Кетлер, не видя других способов навредить нам, решился на шаг самоубийственный, ценою гибели ветхого, но знаменитого Братства меченосцев он приобрел Ливонии верховного покровителя — короля польского, а себе — корону наследственного герцога Курляндского. По вассальному договору король Сигизмунд обязывался не изменять в Ливонии ни веры, ни законов, ни прав гражданских, за то получал город Ригу и земли вокруг нее и выход к морю Балтийскому, давно им лелеемый.
Не все города ливонские с решением своего магистра согласились. Ревель с Эстляндией не захотели поступать под власть Польши и отдались Швеции, а остров Эзель — королю датскому, который сразу же посадил там своего брата Магнуса.
Вредительство хитроумного Кетлера превысило все пределы, им самим замысленные. Швеция с Данией, ранее вяло вступавшиеся за землю чужую, теперь готовы были яростно защищать землю свою, благоприобретенную. Но хуже всего было с Польшей, которая решила, что Кетлер подарил ей не маленький пятачок к югу от Риги, а всю Ливонию, и теперь заносчиво требовала от нас возврата всех городов, нами в Ливонии завоеванных. И литовские паны были в том с поляками согласны, ибо земли те ливонские к ним прилежали.
Не сомневаюсь, что Адашев эту свару быстро бы утихомирил и спорщиков по своим углам развел. Но Захарьины, впервые ступив на тонкий лед отношений межгосударственных, стали неразумно ногами топать и под лед тот провалились, увлекая за собой всю державу русскую. Возмутились они тем, что король польский в грамоте, им в Москву присланной, именует царя русского великим князем. Конечно, такого спускать нельзя, Адашев бы ответил на это построже Захарьиных, но, вынеся обычное наше последнее предупреждение, нашел бы потом способ вернуться к переговорам. А на привычное требование поляков вернуть им исконно польский Смоленск столь же обычно ответил бы требованием исконно русского Киева, на том бы и успокоились, и сели бы за стол, сначала — переговоров, потом — пиршественный. Милые бранятся — только тешатся! О, я эту манеру адашевскую хорошо изучил! Но Захарьины же никого не слушают, даже верного им Ивана Висковатого, в таких делах тоже опытного. Видно, обида от сватовства неудачного им совсем ум застила, и так невеликий.
Упорство их быстро довело дело до войны. Когда прибыло в Москву посольство польское, бояре от имени царя не только отказались уступить им Ливонию, но и напомнили, что все земли русские, у короля Сигизмунда в управлении находящиеся, были достоянием предков государя, Литва же платила дань сыновьям Владимира Мономаха, а посему все Литовское великое княжество есть вотчина царская. На том переговоры и кончились.
Та война братоубийственная была нам совершенно не нужна, но я с горечью убеждался, что эту мысль со мной никто не разделяет, более того, стоило мне ее высказать, как все на меня набросились со словами обидными, из коих «дурачок удельный» было самым пристойным. Особенно задевало меня отношение тех немногих, кто уцелел после разгона Избранной рады. Князь Андрей Курбский, князь Юрий Репнин, тесть мой любезный, воевода славный, князь Дмитрий Палецкий — все они ту войну приветствовали и громогласно обещали крепко проучить заносчивых панов.
Лень и дремоту последних месяцев с бояр и воевод как ветром сдуло, все рвались в поход, надеясь на добычу богатую в обширных землях литовских. Никого призывать не потребовалось — сами слетелись. Ратников было, как говорят, двести восемьдесят тысяч, да обозников за восемьдесят тысяч, пушек же много не брали — всего двести. А над всем этим находились: дядя царя Никита Романович, который царя представлял, и другой дядя — князь Владимир Андреевич Старицкий, и все царевичи татарские, и помимо воевод знатнейших двенадцать бояр думских, да пять окольничих, да шестнадцать дьяков. Такое войско долго на одном месте держать не можно — землю продавят. Потому, едва собравшись, сразу после Светлого Рождества Христова, помолившись, обрушились на Литву, опережая даже гонцов, что со страшной вестью к королю Сигизмунду летели.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: