Михаил Кураев - Капитан Дикштейн
- Название:Капитан Дикштейн
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Советский писатель». Ленинградское отделение
- Год:1988
- Город:Ленинград
- ISBN:5-265-01016-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Кураев - Капитан Дикштейн краткое содержание
«М. Кураев назвал своё повествование фантастическим. Но фантастичны здесь не материал, не сюжетные ходы, а сама реальность, изобилующая необычными ситуациями…»
«Эта повесть продолжает гуманистическую традицию нашей литературы…»
«Автор „Капитана Дикштейна“ знает, о чём говорит: проследить и описать судьбу одного человека — значит косвенным образом вместить частицы множества судеб, и может быть, даже судьбы государства…»
Из рецензийЛенинградский писатель М. Кураев назвал свое повествование фантастическим. Но фантастичны здесь не материал, не сюжетные ходы, а сама реальность, изобилующая необычными ситуациями.
Автор, описавший Кронштадтский мятеж, может быть, впервые в нашей художественной литературе так полно и объективно, ставит целью не только анализ исторически реальных событий, но анализ человеческой судьбы, ввергнутой в эти события.
Михаил Кураев уже давно, более 20 лет, работает в Ленинграде как профессиональный кинодраматург — по его сценариям снято несколько фильмов, а последняя его работа — сценарий «Пять монологов в открытом море» — принята журналом «Знамя». Тем не менее публикация в девятом номере прошлого года «Нового мира» повести М. Кураева «Капитан Дикштейн» явилась своего рода неожиданностью и впервые раскрыла перед всесоюзным читателем М. Кураева как яркого, талантливого и самобытного прозаика. Без преувеличения можно сказать, что публикация «Капитана Дикштейна» стала заметным литературным событием.
М. Кураев предстал перед нами в этой повести тонким и даже изощренным стилистом, блестяще владеющим сложной интонацией субъективной авторской речи лирико-философского характера, и вместе с тем мастером точного, выпуклого реалистического письма в обрисовке характеров, быта, обстановки, в изображении сюжетных линий.
Это очень нечастое сочетание и определило во многом удачу «Капитана Дикштейна» — своеобразной критико-философской притчи строго реалистического вместе с тем характера. Достоинства этой вещи таковы, что позволяют говорить об абсолютной неслучайности для М. Кураева обращения к художественной прозе.
Капитан Дикштейн - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Кто-то невидимый в темноте громко объявил:
— Братва, спать нельзя, ни один утром не разогнётся, все на… помёрзнем! Кто уснёт — крышка! Братва, до утра продержаться… больше терпели.
Трудно было представить, откуда у этого невидимки и силы, и здравый смысл, и способность думать за братву. Он ходил, уговаривал, матерился, пинал ногами разлёгшихся на полу… Отругивались лениво, каждый понимал, что, уснув, можно и не проснуться, но почему-то казалось, что именно с ним этого произойти не может.
Потом вдруг додумался, затянул: «Ревела буря, дождь шумел…». Те, что догадались, зачем песня, что она поможет сломить смертельную дрему, стали подтягивать.
Часовой насторожился, пение среди ночи было подозрительным. С покатой крыши сарая, шурша, слетел вниз и глухо ударился тяжелый пласт подтаявшего за день снега. В то же мгновение ударил выстрел: часовой бухнул с перепугу. Пение оборвалось, выстрел разбудил даже задремавших.
Прибежал разводящий, размахивая маузером, с ним ещё человек пять курсантов с винтовками.
Часовой про снег говорить не стал, а сказал, что поют.
— Раньше петь надо было, — поразмышляв, сказал разводящий, оставил еще одного курсанта и, покурив, ушел.
Около пяти утра свет стал просачиваться в щели у дверей сарая.
Угомонившийся было запевала проснулся первым. Глухо матерясь, пошел встряхивать спящих. Те, кого ему удалось разбудить, узнавали в нём комендора с четвёртого плутонга, члена судкома. Он будто и здесь чувствовал себя за старшего, обязанностей не сложил. Двоих так и не добудился, те уснули навсегда, согревшись в воображении последним теплом, что приходит к замерзающему насмерть человеку.
Чубатый сидел, подтянув колени, вжавшись в себя, спрятав руки в сдвинутые рукава куцего бушлата.
В сарае было так холодно, что казалось: выйди на улицу, на снег — и согреешься.
Холод прогрыз всё тело. Да и тела, казалось, уже не было, остался только лёгкий висящий мороз, в котором растворилось всё, он уже не чувствовал себя, не мог ни вспоминать, ни думать, ни ждать. Всю ночь и полдня он раскачивался между сном и явью, на секунду, иногда на минуты впадая в забытьё, потом снова пробуждаясь от ледяного ожога. Боль в ногах сменилась тупой зудящей тяжестью, руки уже было не разнять, и только острая боль в сердце, словно туда, за бушлат, попал и не тает острый кусочек льда, заставляла чувствовать в себе жизнь. Как только сердце отпускало, иных чувств уже не было, и он ускользал куда-то, словно в нём самом уже ничего, кроме морозного воздуха, не было. Он уже не мог бы даже в точности сказать — лежит он, сидит или подвешен.
Если с утра ещё пробовали бузить, у кого оставались силы, ещё колотили в дверь, требуя хлеба и махорки, то сейчас в сарае стало тихо, будто все в нём уже умерли.
За стенами клокотала жизнь победителей. Распевая «Ермака», прошла рота курсантов, скрипели полозья, кричали возницы, раздавались команды, смех, перекликались, спрашивая о судьбе друзей и знакомых, случайные встречные. Со станции, что была не так далеко, раздавались паровозные гудки и лязг буферов трогавшихся составов.
Стали выкликать. Народ кое-как разгибался и тащился к выходу, где поджидал конвой.
Когда выкрикивали вторую партию из пяти человек, какого-то Семиденко, то ли Семиренко выкликали раз шесть.
— Спит он, — сказал запевала.
— Разбуди! — скомандовал курсант от двери.
— Сам буди, вон он, — показал запевала.
Курсант оставил винтовку с внешней стороны у входа и шагнул в сарай. Подошел, схватил за бушлат лежащего на полу этого Семиренко или Семиденко и дёрнул. От пола при поднялось тело, сохранявшее форму свернувшегося калачиком, уснувшего человека. Он отпустил, голова ударилась о деревянный пол с мягким стуком. Тогда схватил за плечо запевалу и подтолкнул к выходу. Тот не сопротивлялся.
В конце дня дали смёрзшегося хлеба и тепловатой воды. Еда пробудила надежду, что больше вызывать не будут, с полчаса чубатый пребывал в таком чувстве, будто увидел свет и освобождение, потом снова растворился в морозе. Утром открыли дверь, назвали пять фамилий. Он отчетливо слышал свою фамилию, имя, отчество. Эти слова, эти три слова были произнесены, как ему показалось, громче всех, громче, чем прозвучал вчера ночной выстрел. Он вздрогнул, сделал движение, чтобы подняться. Тело не двинулось. Он ещё раз напрягся, чтобы преодолеть эту леденящую невесомость, попытался совершить то непонятное усилие души, благодаря которому иногда удавалось оборвать дурной сон, проснуться и, повернувшись на другой бок и покрепче сбив подушку, окунуться в новую явь сновидения. Фамилия прогремела ещё и ещё раз. Проснувшимся сознанием он понимал, что это последнее, что от него требуется, и даже испугался, что не сумеет это последнее выполнить, заторопился, дыхание провалилось. Ледяной воздух был непреодолимо плотен. Он ещё раз попробовал подняться, хотел крикнуть, чтобы его обождали, но только повёл головой с полуоткрытым ртом под заиндевелыми усами.
— А-а-а!.. — сказал курсант у входа, шагнул в сарай, не выпуская винтовки из рук, огляделся, увидел изрядные сапоги на ногах Игоря Ивановича Дикштейна и дёрнул его к выходу.
Остаток жизни, те последние часы, что достались из-за какой-то неведомой задержки, Игорь Иванович Дикштейн прожил в невероятном, никогда ранее не изведанном огромном и лихорадочном ощущении жизни. Его сознание, лишенное времени на выстраивание привычных обстоятельных рассуждений, охватывало разом и случившееся, и увиденное, и прожитое. И разом приходил он к последнему суждению, к последней сути, чтобы больше уже никогда не возвращаться ни к случившемуся, ни к прожитому, ни к увиденному вокруг.
Тот, кому приглянулись сапоги Игоря Ивановича, куда-то исчез, их долго переводили с места на место, то с кем-то соединяли, то опять отделяли, продержали ещё в каком-то сарае, наполовину забитом дровами, и передали наконец новым людям, новому караулу.
Первая мысль, заставившая сразу же сознание Игоря Ивановича пробудиться и заработать на максимальном напряжении, едва рука солдата схватила его за плечо, была — почему?.. откуда известно?.. кто?.. Ответ выпал мгновенно, как вываливается чек из кассового аппарата «Националь», едва кассир повернет рукоятку и аппарат отзовется весёлым перезвоном.
Журнал! Журнал… Журнал!!! Он увидел журнал подбашенного отделения, журнал, содержащийся в идеальном порядке, быть может, образцовый не только в бригаде линкоров, но и на всём флоте… журнал, куда своей рукой, испытывая знакомое чувство удовлетворения от хорошо исполненной работы, Игорь Иванович Дикштейн сам вписывал целые две недели свой приговор и скреплял своей подписью.
Он тут же выкинул журнал из своего сознания, не способного жить, упёршись в непоправимое. Но жизнь, по которой он скользнул лихорадочным внутренним взором, так же предстала сплошной чередой роковых, непоправимых ошибок… Ошибкой было всё — и то, что не перешел на «Полтаву», не дал себя арестовать тем, которые собирались взрывать линкор, ошибкой казалось и то, что не ушел в Финляндию, а Колосовский предлагал, но самой большой ошибкой вдруг стал сам приход на флот и даже техническое образование, следствием чего стала служба при боезапасе. Какая бы подробность ни вставала в памяти, она тут же обретала обличье страшной и непоправимой ошибки. Но самым ужасным было сознание того, что вся жизнь, вся, была, оказывается, дана Игорю Ивановичу для того, чтобы, он сделал всего лишь один шаг в сторону, только один шаг, и не было бы ничего этого …
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


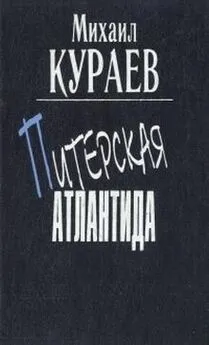
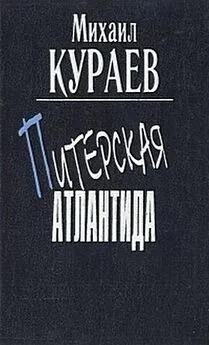
![Михаил Кураев - Саамский заговор [историческое повествование]](/books/433685/mihail-kuraev-saamskij-zagovor-istoricheskoe-poves.webp)



