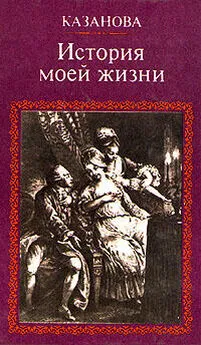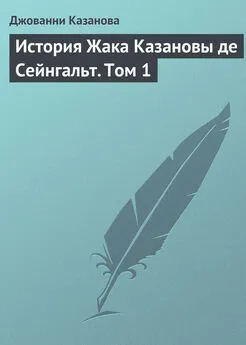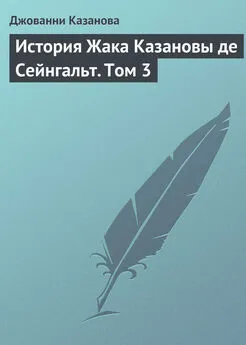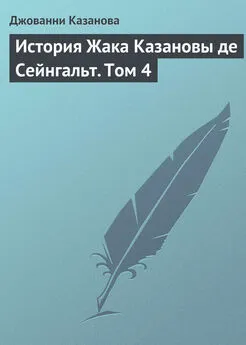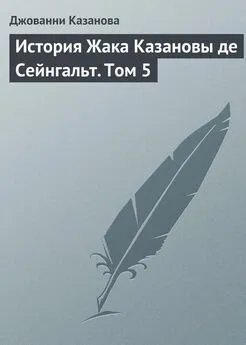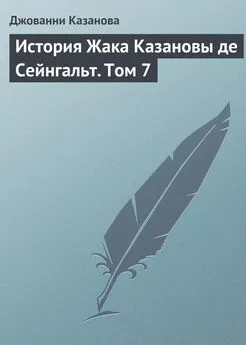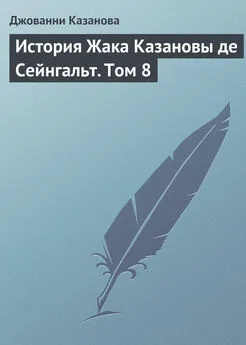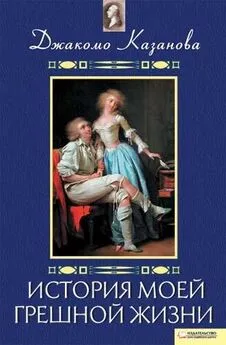Джованни Казанова - История моей жизни
- Название:История моей жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-239-00590-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джованни Казанова - История моей жизни краткое содержание
«История моей жизни» Казановы — культурный памятник исторической и художественной ценности. Это замечательное литературное творение, несомненно, более захватывающее и непредсказуемое, чем любой французский роман XVIII века.
«С тех пор во всем мире ни поэт, ни философ не создали романа более занимательного, чем его жизнь, ни образа более фантастичного», — утверждал Стефан Цвейг, посвятивший Казанове целое эссе.
«Французы ценят Казанову даже выше Лесажа, — напоминал Достоевский. — Так ярко, так образно рисует характеры, лица и некоторые события своего времени, которых он был свидетелем, и так прост, так ясен и занимателен его рассказ!».
«Мемуары» Казановы высоко ценил Г.Гейне, им увлекались в России в начале XX века (А.Блок, А.Ахматова, М.Цветаева).
Составление, вступительная статья, комментарии А.Ф.Строева.
История моей жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— А кто вон та жирная свинья? — спрашиваю я у толстяка-соседа.
— Жена вот этого жирного свина.
— Ах, сударь! Миллион извинений.
Но человек этот вовсе не нуждался в моих извинениях: он не только не рассердился, но хохотал до упаду. Я был в отчаянии. Кончив смеяться, он встает, выходит из амфитеатра, и минутою позже я вижу, как он в ложе разговаривает с женою и оба смеются. Я уже решил было уйти вовсе из театра, как тут, слышу, он меня зовет:
— Сударь, сударь!
Не отвечать было бы неучтиво, и я подхожу к ложе. На сей раз он с серьезным и весьма достойным видом просит прощения за свой смех и приглашает оказать ему величайшую милость и пожаловать сей же вечер к нему на ужин. Поблагодарив, я отвечаю, что уже зван. Он продолжает настаивать, дама к нему присоединяется, и я, дабы убедить их, что это не отговорка, говорю, что зван к Сильвии.
— Уверен, — говорит он, — что мне удастся отменить ваше приглашение, если вы не возражаете; я сам ее попрошу.
Я уступаю; он идет и после возвращается с Баллетти, который передает, что матушка его счастлива столь прекрасными моими знакомствами и ждет меня завтра к обеду. Украдкой Баллетти шепнул, что это г-н де Бошан, главный сборщик налогов.
Когда комедия кончилась, я подал г-же де Бошан руку и сел в их карету. Дом их был полной чашей — как у всех людей подобного сорта в Париже: большое общество, игра на деньги по-крупному, шумное веселье за столом. Из-за стола поднялись в час пополуночи, и меня отвезли домой. Дом этот был мне открыт во все время, что провел я в Париже, и оказался весьма полезен. Правы те, кто говорит, будто иностранцы в Париже скучают по меньшей мере в первые две недели: чтобы войти в общество, надобно время. Однако ж сам я уже в первый день был приглашен и уверен, что скучать не придется.
Назавтра с утра явился ко мне Патю и подарил написанное им в прозе похвальное слово маршалу Саксонскому. Мы вышли вместе и отправились завтракать в Тюильри. Там он представил меня госпоже дю Бокаж, каковая, заговорив о маршале Саксонском, остроумно пошутила:
— Не удивительно ли, что мы никак не могли прочесть de profundis [20](лат.; начало заупокойной молитвы).] человеку, благодаря которому столько раз пели Те Deum[ Тебя, Господи[славим] (лат.; католический благодарственный гимн).] ?
Затем Патю отвел меня к знаменитой оперной актрисе, которую звали Лефель, любимице всего Парижа и женщине — члену Королевской академии музыки. У нее было трое маленьких очаровательных детишек, что порхали по всему дому.
— Обожаю их, — сказала она.
— Все трое красивы, — отвечал я, — и каждый непохож на другого.
— Еще бы. Старший — сын герцога д’Анеси, тот — графа Эгмона, а младший — сын Мезонружа, того, что женился недавно на девице Роменвиль.
— Ах, ах! Простите великодушно. Я полагал, вы мать всех троих.
— А я и есть их мать.
С этими словами глядит она на Патю и вместе с ним заливается хохотом, а я краснею до ушей. Я был новичок. Мне непривычно было слышать, чтобы женщина открыто попирала мужские права. Девица Лефель отнюдь не была бесстыдна — просто честна и выше предрассудков. Знатные господа, отцы этих маленьких бастардов, оставили их матери и платили за воспитание, так что та не знала ни в чем нужды. Неопытность моя по части французских нравов приводила к жестоким недоразумениям. После того допроса, что устроил я девице Лефель, она бы засмеялась в лицо любому, кто бы решился назвать меня неглупым человеком.
В другой раз повстречал я у Лани, учителя балета из Оперы, четырех или пятерых девушек; каждую сопровождала мать. Лани давал им уроки танцев. Всем было тринадцать-четырнадцать лет, и все на вид скромны, невинны и воспитанны. Я говорил им приятные вещи, они отвечали, потупив глаза. У одной болела голова, я даю ей понюхать мелиссовой воды, а подруга ее спрашивает, хорошо ли она выспалась.
— Это не от того, — отвечает дитя, — я, кажется, беременна.
Не ожидав услышать подобного ответа, я говорю, как последний осел:
— Никогда бы не подумал, сударыня, что вы замужем. Она глядит на меня, потом оборачивается к другой, и обе принимаются смеяться от всей души. Я удалился пристыженный и решился впредь не рассчитывать, что в театральных девицах найдется хотя бы капля стыда. Они все похваляются бесстыдством и почитают дураком всякого, кто станет обходиться с ними иначе.
Патю познакомил меня со всеми сколько-нибудь известными девицами; он любил прекрасный пол не менее моего, но, к несчастью своему, не был наделен столь же бурным темпераментом, и заплатил за эту любовь жизнью. Проживи он дольше, стать бы ему вторым Вольтером. Умер он тридцати лет от роду в Сен-Жан-де-Морьен, возвращаясь во Францию из Рима. От него узнал я секрет, какой употребляют здесь многие молодые сочинители, когда надобно им написать что-либо возможно прекраснейшей прозой, как, например, похвальное слово, надгробную речь, посвящение, и желают они достигнуть совершенства в прозе. Открыл мне секрет этот сам Патю, которого я застиг врасплох.
Однажды утром увидал я у него на столе листки, исписанные белыми александрийскими стихами; прочитав с дюжину их, я сказал, что хотя они и хороши, но доставляют более муку, нежели удовольствие, и добавил, что гораздо более стихов понравилось мне то же место в похвальном слове маршалу Саксонскому, написанном прозой.
— Проза моя тебе не понравилась бы так, когда б я прежде не записал все, что желал сказать, белым стихом.
— Но значит, ты понапрасну совершил тяжкий труд.
— Никакого труда нерифмованные стихи не стоят. Их пишешь так же, как прозу.
— И ты полагаешь, будто проза твоя становится красивей, если списать ее с собственных стихов?
— Полагаю, ибо так оно и есть; она становится красивей, и к тому же я спокоен, что в ней не будет в изобилии полустиший — в прозе порок этот возникает сам собою, незаметно для пишущего.
— Разве это порок?
— Величайший — и непростительный. Проза, нашпигованная случайными стихами, хуже даже прозаической поэзии.
— И правда, невольные стихи в какой-нибудь речи звучат, должно быть, дурно, да и сами по себе, надо полагать, нехороши.
— Без сомнения. Вот, к примеру, Тацитова история начинается словами: Urbem Romam а principio reges habuere [21]. Это сквернейший гекзаметр, каковой он, конечно же, написал случайно, а после не распознал — иначе построил бы фразу по-другому. Разве у вас, итальянцев, случайные стихи не портят прозы?
— Портят, и весьма. Однако, скажу тебе, многие обделенные дарованием нарочно вставляют в прозу стихи, дабы придать ей звучности; они тешатся надеждой, что вся эта мишура сойдет за золото и читатели ничего не заметят. Но ты, верно, единственный, кто по доброй воле вершит подобный труд.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: