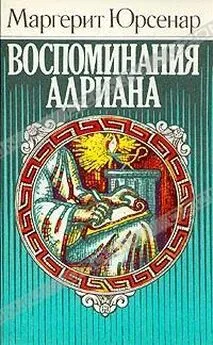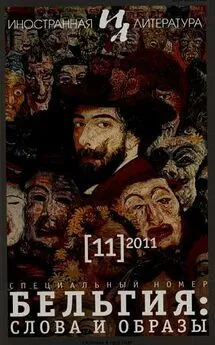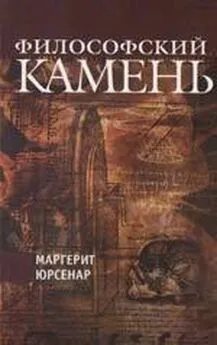Маргерит Юрсенар - как текучая вода
- Название:как текучая вода
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Маргерит Юрсенар - как текучая вода краткое содержание
как текучая вода - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В один ряд с такими шедеврами можно поставить разве что «Африканскую исповедь» Роже Мартена дю Гара: это тоже шедевр, но тут мы из области поэзии переходим в область социологического очерка. Брат и сестра вынуждены спать в одной комнате и пользоваться для чтения одной и той же лампой; эта случайность бросает их в объятия друг друга, но смятение чувств завершается тем, что сестра, как и было предусмотрено, вступает в законный брак с соседом-книготорговцем, а брат отправляется в армию и там встречает других красавиц. Позднее мы снова увидим эту женщину, обрюзгшую, хмурую, ухаживающую за чахоточным сыном, — жалким плодом минуты наслаждения. За такую концовку Андре Жид справедливо упрекал автора в упрощенчестве: если однообразные или чересчур частые союзы между близкими родственниками с течением времени и могут привести к нежелательным последствиям, то известно также — это подтвердит любой фермер, — что в результате таких союзов рождаются вовсе не обязательно одни уроды и калеки, а, напротив, нередко получаются экземпляры, в которых сосредоточены лучшие свойства их породы. Роже Мартен дю Гар погрешил против истины, снабдив свою повесть назидательной концовкой, но нельзя согласиться и с Андре Жидом, который склонен чрезмерно доверять легенде, наделяющей дитя инцеста чудесными свойствами, — как, например, Зигфрида, сына Зигмунда и Зиглинды, ставших прототипами персонажей новеллы «Кровь Вёльсунга»[12]*.
Если не считать «Африканской исповеди», в которой автор словно бы хочет дать нам понять, что ситуации, считающиеся необычными и абсолютно недопустимыми, на самом деле вполне обыденны, то в сюжетах об инцесте преобладают две темы: во-первых, союз двух исключительных существ, объединенных общей кровью, отделенных от других людей своими выдающимися достоинствами, и, во-вторых, заблуждение разума и чувств, приводящее к нарушению закона. Первая из этих тем присутствует в «Anna, soror...»: двое детей живут в относительной изоляции, которая после смерти матери становится абсолютной; вторая — нет. Здесь брат и сестра преисполнены неистовым благочестием эпохи Контрреформации, и бунтарские порывы им совершенно чужды. Их любовь возникает и развивается среди статуй святых и апостолов, оплакивающих Христа, среди скорбящих мадонн и мучеников, «поющих не устами, а отверстыми ранами», в сумрачных, сверкающих золотом интерьерах церквей: это для них и привычное окружение их детства, и последнее прибежище. Их взаимная страсть слишком сильна, чтобы не достичь вершины, но, несмотря на долгую душевную борьбу, предшествующую грехопадению, они воспринимают его как безмерное счастье и не ощущают ни малейшего раскаяния. Один только Мигель сердцем понимает: такая радость возможна лишь при условии, что за нее заплатишь сполна. Его почти добровольная смерть на королевской галере будет заранее обещанным искуплением, которое позволит ему во время праздничной мессы испытать чистое, незамутненное укорами совести ликование. Анна же всю оставшуюся жизнь будет страдать опять-таки не от раскаяния, а от безутешного горя. Даже в старости она все еще будет верна своему греховному чувству — и в то же время будет уповать на Бога.
Портрет Валентины написан другими красками. Эта женщина, проникнутая мистицизмом скорее платоновским, нежели христианским, оказывает, сама того не зная, определенное влияние на страстные натуры своих детей; сквозь их душевные бури она доносит до них частицу своей умиротворенности. В моем творчестве (если только мне дозволено так выразиться) эта безмятежная Валентина видится мне первым образом идеальной женщины, какую я часто представляла себе в мечтах: любящей и в то же время самодостаточной, пассивной не от малодушия, а от мудрости; позднее я попыталась придать эти черты Монике в «Алексисе», Плотине в «Записках Адриана» и, более обобщенно, Фрошо, которая дает убежище на неделю Зенону в «Философском камне». Если я взялась здесь перечислять моих героинь, то потому, что в тех книгах, где, по мнению критиков, я уделила недостаточно внимания женщинам, на самом деле я в значительной мере воплотила мой идеал человека именно в женских образах.
По-видимому, Валентина (я говорю «по-видимому», потому что поступки персонажей должны, на мой взгляд, оставаться порой необъяснимыми даже для автора: такова цена их свободы) с самого начала догадывается о том, что ее дети любят друг друга, но не принимает никаких мер, ибо знает: эта любовь неугасима. «Что бы ни случилось, вы не должны ненавидеть друг друга». Умирая, она предостерегает их от греховной страсти, которая сразу после утоления обернется ненавистью, обидой или, что еще хуже, досадливым безразличием. Но они избегнут этой беды, обретя счастье и приняв муку: Мигель уйдет в смерть, Анна — в неиссякаемую верность. Социальное понятие «преступление» и христианское понятие «грех» расплавятся в этом пламени, которое будет гореть всю жизнь.
«Anna, soror...» была написана за несколько недель весной 1925 года, во время пребывания в Неаполе и сразу после возвращения оттуда; возможно, именно этим объясняется то, что любовная связь брата и сестры возникает и завершается на Страстной неделе. В Неаполе меня больше всего поразили не шедевры античного искусства в музеях и не фрески на вилле Мистерий в Помпеях, которые я тогда полюбила на всю жизнь, а сутолока и оживление в бедных кварталах и еще суровая красота и поблекшее великолепие церквей, иные из которых впоследствии серьезно пострадали или были полностью разрушены во время воздушных налетов 1944 года, как, например, Сан Джованни ди Маре, где Анна открывает гроб Мигеля. Я посетила замок Святого Эльма, где жили мои герои, и расположенный рядом монастырь, где доживал свой век дон Альваро. Я побывала в маленьких нищих деревнях Базиликаты (в такой деревне находился не то господский, не то крестьянский дом, куда Валентина с детьми приехали на время сбора винограда), а развалины, которые Мигель видит то ли во сне, то ли наяву, — это, очевидно, развалины Пестума. Никогда еще романтический вымысел не вдохновлялся так непосредственно теми местами, где происходило действие.
Работая над «Anna, soror...», я впервые насладилась преимуществом романиста — возможностью целиком раствориться в своих героях или позволить им завладеть собой. В эти недели я вела себя как обычно, общалась с людьми, но на самом деле я жила внутри этих двух тел и двух душ, будучи попеременно то Анной, то Мигелем, невзирая на то что они разного пола; думаю, подобное же безразличие испытывают все авторы по отношению к своим персонажам[13], и нет ничего удивительного в том, что мужчина способен в совершенстве описать чувства женщины, — как Шекспир описывает чувства Джульетты, Расин — Роксаны и Федры, Толстой — Анны Карениной (читатель, впрочем, уже и не удивляется: привык), или — более редкий случай — в том, что женщина способна правдиво изобразить мужчину с его мужской логикой: таков Гэндзи у Мурасаки, Рочестер у Бронте или Йёста Берлинг у Сельмы Лагерлеф. При таком вживании в образ героя перестают ощущаться и другие различия. Мне было тогда двадцать два года, как Анне в разгар страсти, но для меня не составляло никакого труда превратиться в утомленную жизнью, постаревшую Анну или в дона Альваро на склоне лет. Мой опыт чувственной любви был в то время весьма невелик, страсть мне еще только предстояло испытать, но любовь Анны и Мигеля пылала во мне, как костер. Думается, объяснение тут простое: все это уже было тысячу раз прожито и пережито нашими предками, которых мы несем в себе, как и тысячи существ, которым еще только предстоит появиться на свет. Но тогда снова и снова возникает вопрос: почему из бесчисленного множества частиц, скрытых в душе каждого из нас, всплывают на поверхность именно эти, а не другие? В то время я была не так обременена собственными эмоциями и житейскими заботами, как сегодня; возможно, поэтому мне было легче раствориться в героях, которых я выдумала, или считала, что выдумала.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: