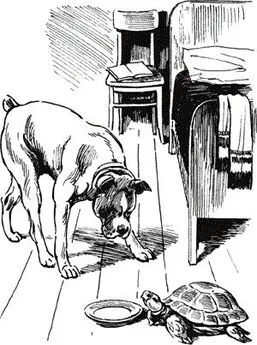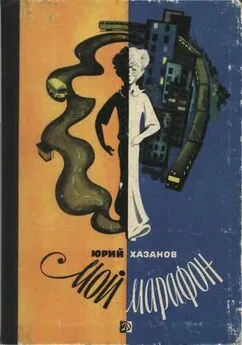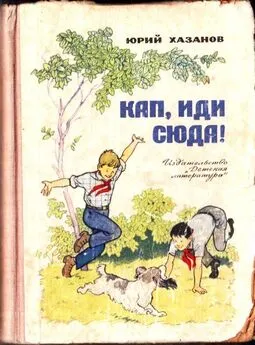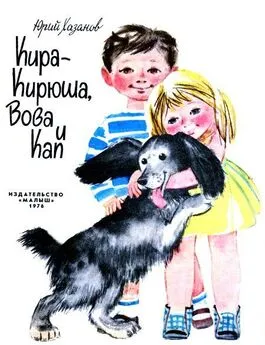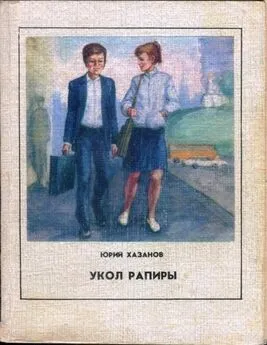Юрий Хазанов - Черняховского, 4-А
- Название:Черняховского, 4-А
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Хазанов - Черняховского, 4-А краткое содержание
Продолжение романа «Лубянка, 23».
От автора: Это 5-я часть моего затянувшегося «романа с собственной жизнью». Как и предыдущие четыре части, она может иметь вполне самостоятельное значение и уже самим своим появлением начисто опровергает забавную, однако не лишенную справедливости опечатку, появившуюся ещё в предшествующей 4-й части, где на странице 157 скептически настроенные работники типографии изменили всего одну букву, и, вместо слов «ваш покорный слуга», получилось «ваш покойный…» <…>
…Находясь в возрасте, который превосходит приличия и разумные пределы, я начал понимать, что вокруг меня появляются всё новые и новые поколения, для кого события и годы, о каких пишу, не намного ближе и понятней, чем время каких-нибудь Пунических войн между Римом и Карфагеном. И, значит, мне следует, пожалуй, уделять побольше внимания не только занимательному сюжету и копанию в людских душах, но и обстоятельствам времени и места действия.
Черняховского, 4-А - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
1
Калерия, дочь Максима,
Хочу я невыносимо
Прижаться губами несмело
К мрамору вашего лба…
Но, чтобы достать ваш локон,
Нужна мне система блоков —
Иначе не выгорит дело,
Иначе оно труба!
Так я позволил себе обратиться к юной жене моего нового приятеля Лёни Летятника, тоже из плеяды молодых редакторов одного крупного московского издательства. Баскетбольного роста, похожий лицом на Мефистофеля из оперы Арриго Бойто в исполнении Шаляпина, чью фотографию в этой роли я видел в детстве среди маминых нот, Лёня тоже обладал красивым голосом, только не пел, а умело играл им, блестяще рассказывая различные истории, большинство из которых были в достаточной степени фантастическими, проще говоря, завиральными, от чего становились ещё занимательней. Уже в начале знакомства я узнал интереснейшие подробности о встречах Лёни с представителями неземных цивилизаций и что по материнской линии он состоит в самом прямом родстве с Наполеоном Бонапартом. С присущим мне скептицизмом я тут же поинтересовался, упоминает ли он об этом в анкетах, в графе «есть ли родственники за границей», и Лёня слегка обиделся. Я же с тех пор начал, для себя, называть его не иначе, как «Орлёнок». (Не тот, который в старой песне «взлетал выше солнца», и не пионерский лагерь на Чёрном море близ Туапсе, а подлинный сын Наполеона, австрийский герцог Рейхштадский, персонаж одноимённой пьесы Э. Ростана.) Ещё мне стало известно, как однажды военный гидроплан, на котором почему-то летел Лёня, сделал посадку — Лёня отворил дверцу, шагнул… и очутился — нет, не на земле аэродрома, а в холодных волнах Балтийского моря… ха-ха-ха!..
— Но, вижу, тебя спасли, — сказал я, и Лёне это тоже не очень понравилось.
Он хорошо знал английский, ещё лучше шведский и неплохо переводил с этих языков книги, но занимался этим мало. Неопределённости переводческой профессии он предпочитал устойчивость государственной службы, по ступенькам которой медленно, но верно продвигался вверх, пока должностная стремянка не подкосилась и он не оказался в самом её низу. Но это случилось много позднее, когда мы с ним давно уже разошлись — и в дружбе, и во взглядах на советский антисионистский комитет, в состав которого он вошёл, а также на Солженицына и Юлия Даниэля. Со своей женою Калерией он расстался примерно в то же время, но по другим причинам. С той самой «дочерью Максима», до локона которой я не мог дотянуться в прямом смысле слова, поскольку её рост тоже приближался к баскетбольному. Что не мешало ей быть весьма приятной и гостеприимной, играть не в баскетбол, а на арфе, и хорошо владеть немецким языком. Душевные и физические её достоинства не становились для меня намного меньше даже от того, что знание этого языка она применяла не в школе и не водя туристов по Третьяковской галерее, а работая со всякими таинственными бумажками в комитете госбезопасности на Лубянке.
Отец Калерии был генералом артиллерии, мать — даже говорить не хочется, кем… (по национальности), однако генеральский чин в анкете перевесил, и дочь приняли в столь весомое учреждение, где платят, наверное, побольше, чем учителям и гидам. Не знаю, как другие, а мы с Риммой только выиграли от пребывания Кали на этой работе, потому что не один раз она водила нас в их клуб — кстати, на той же улице Лубянке, в конце которой мы тогда жили, — мы повидали фильмы, не шедшие в обычных кинотеатрах. Там я впервые увидел на экране Брижит Бардо, Симону Синьоре, Ингрид Бергман, но ничего особенного не ощутил… Проклятый скепсис! Или дурацкое (а может, и не очень дурацкое) внутреннее противодействие тому, что мы сами, но чаще не без помощи извне, превращаем в массовый культ — будь то исступлённая вера в кого-то или во что-то: фанатичное поклонение чьим-то мыслям и лозунгам, а также футбольному мячу, голосовым связкам, размеру груди, таза или силе мышц.
Калерия и Лёня прошли нелёгкий путь к своему не слишком долгому семейному благоденствию. Её отец категорически противился браку: Лёня был значительно старше Кали, да и по анкетным данным, невзирая на близкое родство с Наполеоном, не очень подходил. Особенно, по отчеству. Поэтому первое время после знакомства молодые усиленно искали тех, кто был готов проявить гостеприимство. Такими оказались и мы с Риммой. Заднее сиденье нашего нового «Москвича», немного большего по размерам, чем прежний, теперь нередко занимали для совместных прогулок два огромных «щЕна», как они ласково называли друг друга. Но и для настоящего щена по имени Кап тоже оставалось немного места.
Постепенно отец Калерии сменил гнев на милость, Лёня получил разрешение бывать у них в доме, а потом и вовсе переселился туда. Тогда мы с Риммой тоже обрели возможность, изредка заходя к ним в гости, наслаждаться звуками арфы из-под пальцев Кали и кулинарными изысками её матери.
Среди многочисленных историй, услышанных мною от Лёни, были и превратившиеся в подобие некоего «сериала» (слово ещё мало употребляемое в те годы) истории о молодом парне по имени Гоша и по кличке «Нью-Кандид», которую тот получил от Лёни, читавшего когда-то (как и ваш покорный слуга) философские повести Вольтера. Рождению сериала способствовало и то, что Гоша был мастером по пишущим машинкам, и он время от времени начал бывать в гостях не только у лёниного «Континенталя», но и у моей «Эрики», и при этом почти всегда делился с нами тем, что с ним происходило в жизни. Его истории были так искренни, так простодушны, так наполнены честным непониманием и неприятием всего дурного, почему-то ещё происходящего кое-где в нашей действительности, что иначе как Нью-Кандидом его и назвать было трудно.
Говоря же о Лёне, хочу ещё заметить, что на благо моей литературной корысти он не слишком потрудился: с его помощью я принял участие как переводчик всего в одном сборнике стихов известного армянского поэта начала прошлого века Иоаннисяна — на мою долю выпало там около двадцати стихотворений. Но, как говорится в одном шуточном грузинском тосте: «Не за то мы его ценим…» Не за то (ну, не только за то) ценил я и работавших там же, где Лёня, других редакторов — Колю Банникова, Мориса Ваксмахера, Володю Финикова, Глеба Юнакова… И печально, что привелось увидеть, как иные из них (из нас) меняются с течением лет, становясь замкнутыми, недобрыми, подозрительными, а то и не слишком порядочными… А также, увы, тяжело болеют, спиваются… Эх, что говорить… И со мною, несомненно, что-то происходит, не красящее меня… Или ещё произойдёт…
Однако, вы наверняка хотите узнать, каким образом среди нас появился впервые Кандид советского образца, он же Гоша Горюнов? Об этом мне поведал Лёня Летятник в присущей ему образной манере, которую я в переводе с устного языка на письменный постарался не очень испортить.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: