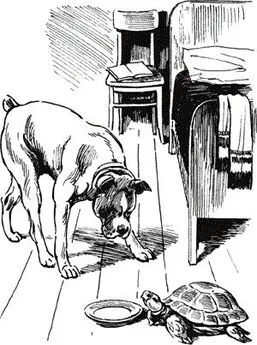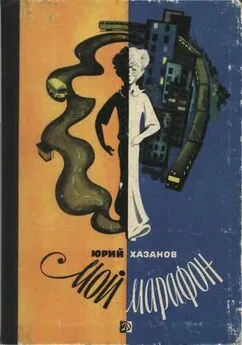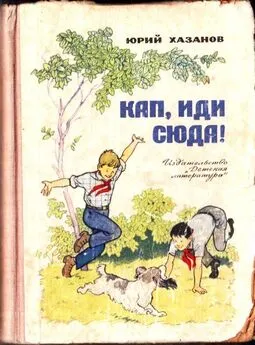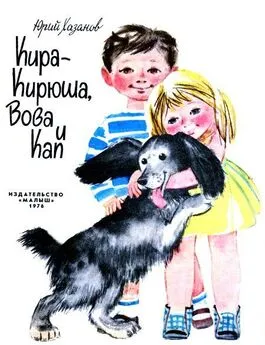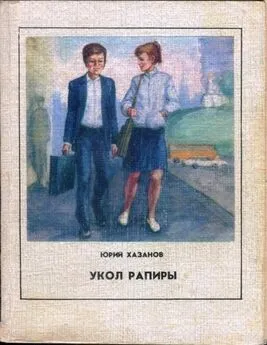Юрий Хазанов - Горечь
- Название:Горечь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Хазанов - Горечь краткое содержание
Продолжение романа «Черняховского, 4-А».
Это, вполне самостоятельное, повествование является, в то же время, 6-й частью моего «воспоминательного романа» — о себе и о нас.
Горечь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Уроженец Нижнего Новгорода, студент Московского университета, начинающий учёный с задатками настоящего филолога; наконец, военный, со страстью и азартом участвовавший в гражданской войне, сподвижник генерала А.П. Перхурова, бившийся в Ярославле в известном, поднятом Б. Савинковым [5] Борис Савинков — эсер, террорист, писатель (под псевдонимом В. Ропшин). Бежал за границу, вернулся в 1924 году, был осуждён, покончил с собой.
восстании и лишь случайно избежавший гибели».
(А потом Поволжье, потом грандиозное отступление Белой Армии — так называемый Великий Сибирский Ледяной поход… Его первая и единственная книга была озаглавлена «Стихи таежного похода»…)
«Какая пёстрая жизнь… Леонид Ещин не избежал судеб русского народа и прошёл их мрачным рядом вместе со всеми теми, кто были его спутниками, прошёл и скрылся, подобно многим, в сумерках прошлого…»
Немало узнал я о своем дяде из того, что дал мне прочитать Боря Можаев и что рассказал, однако хотелось знать ещё больше.
— Вы знакомы с Натальей Ильиной? — спросил он как-то потом.
Я впервые слышал имя, и он немного просветил меня, сообщив, что Наталья — дочь женщины, которая уже несколько дней живёт здесь, в Голицыне, по путёвке, как и мы. Зовут её Екатерина Дмитриевна, фамилия Воейкова-Ильина; с материнской стороны она в родстве со старинными дворянскими семьями Толстых, Мусиных-Пушкиных, а родным братом её отца был А.И. Воейков, знаменитый российский географ и климатолог, благодаря кому, по всей вероятности, никого из её семьи не только не арестовали после революции, но даже разрешили эмигрировать тем, кто захотел. Муж Екатерины Дмитриевны, подполковник царской армии Ильин, захотел и, скорее всего, был прав, хотя в эмиграции им пришлось несладко. Более тридцати лет жизни в Маньчжурии, в Харбине, бывшая дворянка, бестужевка [6] Высшие женские курсы в Петербурге — Бестужевские, по имени их руководителя, открытые в 1878 году. Курсистки приобретали там профессии врача, педагога.
вынуждена была давать частные уроки и делать переводы, чтобы прокормить семью, в которой подрастали две дочери. Старшая и была Наташа. Она первой из их семьи вернулась в Советский Союз, откуда была увезена в пятилетнем возрасте, — и произошло это уже после окончания Второй мировой войны, в 1947 году. Мать приехала к ней в Москву через семь лет, когда Наташа уже освоилась в незнакомой стране: окончила литературный институт, начала публиковать свои фельетоны и пародии, только что выпустила из печати первую книгу «Возвращение», а недавно её приняли в Союз писателей…
— Наташа бывает здесь у матери, — сказал в заключение Борис, — но вам, Юра, стоит познакомиться и с самой Екатериной Дмитриевной, очень приятной женщиной. Вполне возможно, она сможет многое рассказать о вашем дяде…
Был уже поздний вечер, и я решил сделать это завтра, а пока пошёл к себе в комнату и улёгся на широкую кровать, один из длинных краев которой соприкасался с хромой тумбочкой, другой же примыкал к стенке, а за стенкой, в соседней комнате, стояла такая же точно кровать — это я однажды случайно увидел, когда дверь оттуда открылась, и из неё вышла молодая стройная брюнетка. Тогда я понял, что мы лежим с ней, собственно, на одной широкой кровати — разделённые лишь тонкой перегородкой. (Вскоре мы разговорились с хозяйкой комнаты, и я узнал, что она — жена руководителя одного довольно известного музыкального ансамбля. Однако, увы, мы продолжали спать каждый на своем ложе.)
А с Екатериной Дмитриевной я познакомился, и был очень рад этому знакомству. По манере говорить, по умению слушать, по сдержанности, корректности и чистоте произношения — и вообще по хорошему, как раньше говорилось, тону она была похожа на уже известных мне к тому времени пожилых собеседниц — таких, как Мария Поступальская, Анастасия Цветаева, Анна Баркова, Елена Благинина…
Как оказалось, она хорошо знала Леонида Ещина в течение довольно многих лет — с начала двадцатых годов и до его смерти в 1930-м. Более того: он оказался в числе многих из тех местных литераторов-эмигрантов, кто был влюблен в эту женщину и писал стихи в её альбом.
Вот одно из его посвящений.
В тумане облачном, неясна и мутна,
Как в дымном ладане курящее кадило,
С далекого амвона мне светила
Лиловая холодная луна.
Я проходил сквозь ночь. Гудящая струна
Высоких прОволок была близка и мила;
Манила вдаль таинственная сила
Издревле золотом томящего руна.
Духов Её мучительных и сладких,
Остался на губах едва заметный вкус —
Как память изумительнейших уз,
Начало и конец теряющих в загадках.
А эхо от шагов в пустых ночных витринах
Звенело именем одним: Екатерина.
12/5/24
Харбин
Кстати, та, к кому обращён сонет, была ровно на десять лет старше его автора, а прожил он в ту пору всего двадцать семь.
Но не только любовные стихи символистского замеса писал мой дядя. Вот почти дневниковый отчёт о только что пережитом в походах и сражениях 1920-м годе:
Двадцатый год со счётов сброшен,
Ушёл, изломанный, в века…
С трудом был нами он изношен:
Ведь ноша крови не легка.
Угрюмый год в тайге был зачат,
Его январь — промёрзший Кан,
А на байкальском льду истрачен
Февраль под знаком партизан.
А дальше — март под злобный ропот,
Шипевший сталью, что ни бой.
Кто сосчитает в сопках тропы,
Где трупы павших под Читой?
Тот март теряется в апреле,
Где Шилка прячется в Амур.
Лучи весны не нас согрели,
Апрель для нас был чёрств и хмур…
Мешая отдыхи с походом,
Мы бремя лета волокли,
Без хлеба шли по хлебным всходам,
Вбивая в пажить каблуки.
Потом бессолнечную осень
Безумных пьянств прошила нить…
О, почему никто не спросит,
ЧтС мы хотели спиртом смыть?
Ведь мы залить тоску пытались,
Тоску по дому и родным,
И тягу в солнечные дали,
Которых скрыл огонь и дым…
В боях прошёл октябрь-предатель,
Ноябрь был кровью обагрён,
И путь в степи по трупам братьев
Был перерезан декабрём.
За этот год пропала вера,
Что будет красочной заря.
Стоим мы, мертвенны и серы,
У новой грани января.
Стихи эти — тоже «Времена года» — как у Вивальди или Чайковского, только у автора стихов не было ни времени, ни спокойствия на душе для гладкого и обстоятельного рассказа о двенадцати месяцах. Да и не рассказ это, но крик. Сплошное рыдание…
Из бесед с Екатериной Дмитриевной я больше узнал и о её семье, вдосталь испытавшей на себе «мировые безумные сквозняки», как выразился когда-то К. Чуковский. Эти самые ветры занесли старшую дочь Наталью из Петербурга в Харбин, оттуда в Шанхай, где делала первые шаги в журналистике, потом в Москву; а младшая Ольга, достигнув совершеннолетия, оказалась в Пекине, где помогала воспитывать детей в английских семьях; потом, по приглашению друга их семьи месье Массне (да, да, племянника того, кто написал оперы «Манон» и «Вертер») поехала в Индокитай и там вышла замуж за французского офицера, который погиб в бою с японцами во время Второй мировой. Она осталась в Сайгоне — одна, беременная, и только благодаря помощи друзей смогла на военном корабле покинуть Вьетнам и приехать во Францию, где обрела второго мужа, с которым тоже были дети и жизнь с которым длилась шестьдесят лет. (О последней цифре я, разумеется, узнал не тогда, когда разговаривал с Екатериной Дмитриевной, а спустя сорок с лишним лет, читая книгу «Нам не уйти от родины навеки», составленную из дневниковых записей и писем матери её младшей дочерью Ольгой Лаиль) и изданную недавно в России…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: