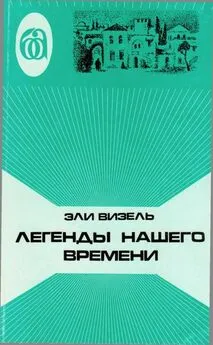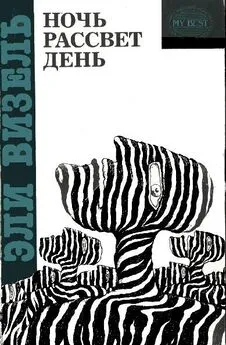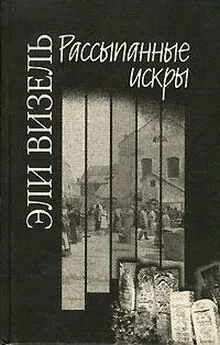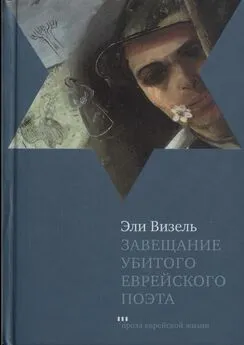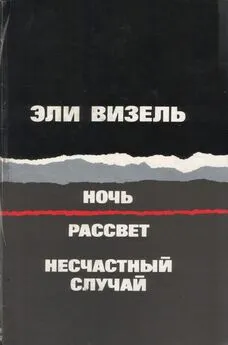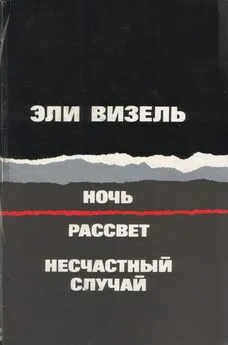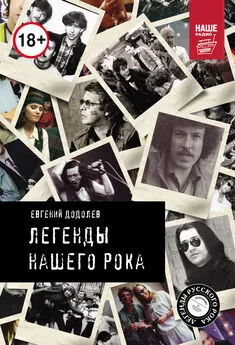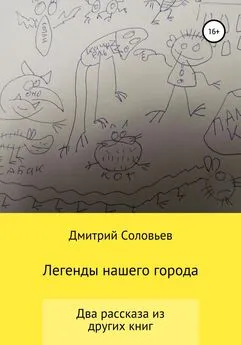Эли Визель - Легенды нашего времени
- Название:Легенды нашего времени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Библиотека-Алия
- Год:1982
- Город:Иерусалим
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эли Визель - Легенды нашего времени краткое содержание
ЭЛИ ВИЗЕЛЬ — родился в 1928 году в Сигете, Румыния. Пишет в основном по-французски. Получил еврейское религиозное образование. Юношей испытал ужасы концлагерей Освенцим, Биркенау и Бухенвальд. После Второй мировой войны несколько лет жил в Париже, где закончил Сорбонну, затем переехал в Нью-Йорк.
Большинство произведений Э.Визеля связаны с темой Катастрофы европейского еврейства («И мир молчал», 1956; «Рассвет», 1961; «День», 1961; «Спустя поколение», 1970), воспринимаемой им как страшная и незабываемая мистерия. В 1972 году был опубликован сборник «Литературные портреты вождей хасидизма и легенды о них».
В предлагаемую читателю книгу включены две повести — «Легенды нашего времени» (1966) и «Иерусалимский нищий» (1968). Тема этих повестей — отношения между человеком и Богом; поиск новых ответов на извечные вопросы бытия.
Легенды нашего времени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Почему вы не восстали? Почему вы не сопротивлялись? Вас было десять тысяч против десяти, против одного; почему вы позволили вести себя на убой, как скот?
В первые дни процесса Эйхмана генеральный прокурор Гидеон Хаузнер, желавший, для пользы молодых израильтян, осветить темные области разыгравшейся трагедии, терзал свидетелей вопросами такого рода. Они неизменно отвечали:
— Вы не можете понять; тот, кто там не был, не способен понять.
Бруно Беттельгейм и Виктор Френкель, известные психиатры, там были. В своих книгах, посвященных психологии концлагерей, они попытались дать объяснение. Согласие жертв казалось им не менее загадочным, чем жестокость палача. Они приписывают это распаду личности или пробуждению в «я» тенденции к смерти; но это только частичное объяснение. Здесь не хватает «почему», не хватает метафизического аспекта. Не хватает элемента виновности, той виновности, которая пропитала сознание узников.
Это чувство имеет прежде всего религиозное происхождение. Раз я здесь, значит, меня наказал Бог: я грешил, я расплачиваюсь; если я подвергнут такой каре, значит, я ее заслужил. Бунт против Бога приходит позже. Сначала узник приносит свою свободу в жертву свободе Господа. Он скорее признает себя виновным, чем сделает вывод, что его Бог — это Бог Иова, для Которого человек — только пример, только средство иллюстрировать свой тезис в словесной дуэли с Сатаной.
Каждый день, удалявший его от свободы, делал чувство виновности все более острым, все более осознанным. К тому же он тем самым следовал линии поведения, начертанной для него тюремщиками в лагерях и в гетто, умело, на научной основе доводившими до последнего предела чувство стыда и уничижения, которое человеческое существо естественно испытывает перед мертвыми.
Я живу, значит, я виновен; если я еще здесь, то только потому, что друг, товарищ, незнакомец умер вместо меня. В закрытом сосуде эта уверенность приобретает разрушительную силу, действие которой можно предвидеть. Если жить означает принять или породить несправедливость, то смерть очень скоро становится обетованием и освобождением.
Система лебенсшайн в гетто и селекцион в лагерях имела целью не только периодически уничтожать десятую часть населения, но еще и внушить каждому: это мог бы быть я, я — причина, а может быть, — и условие смерти другого.
И потому лебенсшайны представляли собой моральную пытку, тюрьму без исхода. Самое волнующее свидетельство, которое я слышал на процессе Эйхмана, исходило от бывшего врача из Вильно. Он тогда только что женился и раздобыл себе «сертификат на жизнь»; он работал на немецком заводе и мог спасти кого-нибудь из членов своей семьи. Он пришел к своей матери и спросил ее: «Что делать, кого спасать? Тебя или жену?». Когда человека вынуждают сделать подобный выбор, когда он становится живым орудием судьбы, то отныне он уже обречен жить в удушливом адском кругу; врач уже никогда не мог подумать о себе без гнева и отвращения. Если Эрни Леви, незабываемый герой Шварц-Барта, в конце концов решает сесть в поезд на Освенцим, то делает он это не из любви и не из жалости, а из убеждения, что человечество взошло на такую ступень зла, что никто больше не может продолжать жить и оставаться праведным.
Низведенный до обыкновенного номера, человек в концлагере утрачивал свою личность, свою индивидуальную судьбу. Он попал в лагерь единственно потому, что принадлежал к забытому и обреченному коллективу. Не то записано, что «я» буду жить или погибну, а то, что кто-то — сегодня — погибнет или будет продолжать мучиться. С точки зрения общего, нет никакой разницы, я ли это буду, или другой. Важно количество, квота. И потому заключенный, которого обошла смерть, особенно в период селекций, не мог удержаться от первого рефлекса: радости. Через мгновение, через неделю, через вечность эта радость, полная скрытых опасений, превращается в виновность. Чувство спасения равно признанию — я радуюсь тому, что вместо меня ушел другой. И для того-то, чтобы не думать об этом, заключенным удавалось, с помощью механизма самозащиты, забывать так скоро своих товарищей — своих родных — попавших в селекцию. Чтобы не видеть полных упрека взглядов, которые в последний раз бросали им уходившие.
Почему евреи в лагерях не избрали почетную смерть, с ножом в руках, со словами ненависти на устах? Доктор Бруно Беттельхейм законно задает себе этот вопрос. Не говоря о технических и психологических причинах, делавших невозможной всякую попытку восстания (люди знали, что принесены в жертву, вычеркнуты из человечества, забыты), для того, чтобы ответить, надо понять моральный аспект вопроса. Осознав висевшее над ними проклятье, евреи пришли к мысли, что они уже недостойны почетных дел и не способны на них. Умереть г борьбе означало для них предать тех, кто пошёл на смерть покорно и в молчании. Единственным способом примириться с ними было пойти их путом и умереть их смертью.
Вспомним еще один случай, о котором тоже говорилось на суде в Иерусалиме. Голо I, раненой женщине удалось выбраться из ямы, | которой лежали расстрелянные из пулемета евреи ее городка; вскоре она вернулась обратно, чтобы присоединиться к фантасмагорическому коллективу трупов. Чудесно спасенная, она отказывалась жить, ибо жизнь в ее глазах стала нечиста.
Психиатры подолгу обследовали Эйхмана и до и после процесса. Еще не известно, что именно они открыли. Следовало бы освидетельствовать и его жертвы, которые остались в живых. Но выжившие только молчат в ответ, и свое подавляющее молчанье они вынесли «оттуда». Они не желают открываться. Другие люди не знают, что лагерники боялся собственного голоса. Их трагедия — это трагедия Иова до того, как он покорился: они думают, что виноваты, хоть это на самом деле и не так. Только судья мог бы снять с них бремя, но, по их мнению, ни у кого нет ни власти, ни сил это сделать: ни у людей, ни у богов. И потому, в этом приговоренном к смерти мире, они предпочли, вместо того, чтобы бросить вызов людям и гневно призвать Историю к ответу, просто молчать, продолжать монолог, который только мертвые достойны услышать. Чувство виновности не выдумали в Освенциме, его там только исказили.
РЕЧЬ В ЗАЩИТУ МЕРТВЫХ
Мне было только пятнадцать лет, когда впервые я, пораженный, присутствовал при странном споре о благородстве и смерти и о возможной связи между ними.
Люди, умершие, но еще не знавшие этого, спорили скорее о необходимости, чем о возможности, встретить смерть достойно.
Реальность некоторых слов ускользала от меня, весомость этой реальности тоже. Люди вокруг меня разговаривали, а я ничего не понимал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: