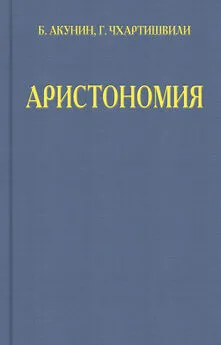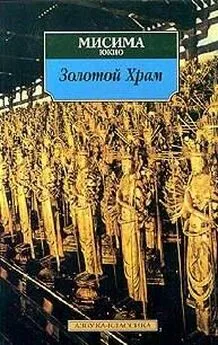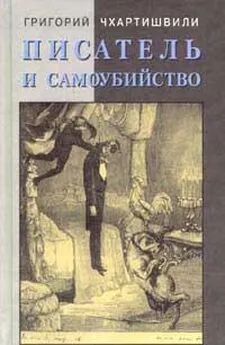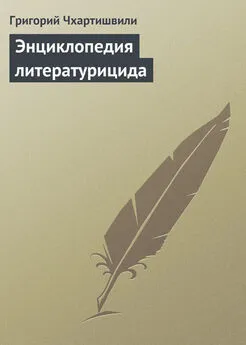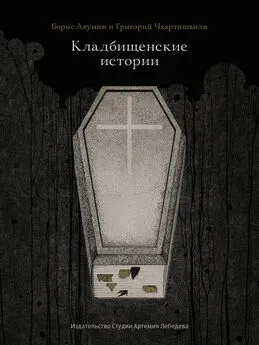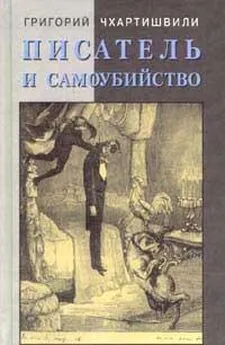Григорий Чхартишвили - Аристономия
- Название:Аристономия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Чхартишвили - Аристономия краткое содержание
*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЕМ ШАЛВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЯ ШАЛВОВИЧА.
Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) после сорока приключенческих произведений, наконец, написал первый серьезный роман, которого давно ждали читатели и критики.
По жанру – это «роман идей». Действие происходит во время революции и Гражданской войны. Автор работал над этим романом несколько лет.
Аристономия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Найти хорошее место помогла Паша, у которой на почве профсоюзно-женской деятельности завелись разнообразные полезные связи. Антон поступил на должность конторщика в райотдел Наркомпрода. В прежней жизни не существовало и не могло существовать аналога этой организации, ведавшей распределением продовольствия, но в нынешние времена она стала истинной повелительницей живота и смерти, поскольку от нее зависело, по какой категории выписывается паек каждому жителю и какова будет норма выдачи. Притом с каждой неделей, по мере истощения городских запасов, значение магического слова «паек» всё возрастало. К концу лета в свободной продаже продуктов питания не осталось вовсе. Купить что-то можно было только на «черном рынке», за фантастические деньги, с риском угодить в облаву на спекулянтов.
Слово «жалование» больше не употреблялось как унизительное для трудящегося человека. Появился новый термин – «зарплата». В начале своей недолгой карьеры Антон получал тысячу рублей в месяц, а к осени уже пятнадцать. Он, правда, вырос в должности, поднялся до замзавсектора хлебоснабжения, но пятнадцатикратный рост денежного содержания был вызван не успехами по службе, а бешеной инфляцией. В августе фунт скверного клейкого хлеба у спекулянтов стоил не меньше пятисот рублей, одно яйцо – четыреста, средних размеров картофелина – двести пятьдесят, а новые сапоги – пятьдесят тысяч.
Зато Антону полагался паек первой категории, а это было поценнее зарплаты: фунт хлеба ежедневно, крупа, вобла или селедка и раз в две недели фунт сахара (на черном рынке дешевле чем за пять тысяч не купишь). Плюс к тому важная привилегия – прикрепительный талон на бесплатный обед в столовой.
На общем фоне жили они сносно, потому что у Паши тоже была первая категория, и еще временами она получала «спецвыдачи по линии женской солидарности» – на адрес Петроградского союза женщин-пролетариев от феминисток Америки и Скандинавии приходили посылки, содержимое которых распределялось между активистками «в порядке поощрения».
А между тем неработающие из «бывших», кому полагалась карточка последней, четвертой категории, должны были существовать на осьмушку хлеба, выдаваемую раз в два дня. Когда на совещании отдела Антон сказал, что выжить при такой норме невозможно, председатель райпродкомиссии товарищ Куземкин, бывший рабочий-обуховец, отрезал: «Ничего, буржуям есть что продать, как-нибудь выживут. Нам надо допреж всего о простых людях думать, у кого в кармане вошь на аркане».
Что возразишь? Прав товарищ Куземкин. Пока Антон служил под началом у этого полуграмотного, но безусловно честного человека, казалось, что загадка прочности большевизма разъяснилась. Да, новая власть безжалостна и груба, зато справедлива и бескорыстна. Народ это чувствует и прощает временные тяготы, в которых виноваты не коммунисты, а царизм, приведший Россию к военному и экономическому краху.
Но в июле товарищ Куземкин ушел по компризыву в армию, воевать с белочехами. Больше таких людей Антон на руководящих должностях не встречал.
Появился новый начальник, из «пролетариев прилавка», то есть бывший приказчик. Куземкин, так и не постигший тайн таблицы умножения, во всех расчетах полагался на Антона и других образованных сотрудников, новый же председатель не только разбирался в арифметике, но владел двойной бухгалтерией.
Уже на второй день он вызвал к себе замзавхлебсектора и, азартно блестя глазами, стал тыкать карандашом в колонки цифр.
– Гляди сюда, студент. Ты отчетность по хлебовыдаче раз в неделю сдаешь, так? А я поставлю вопрос о переходе на ежемесячную, в порядке борьбы с лишним бумагооборотом и бюрократизмом. Скумекал?
Нет, Антон не «скумекал». Начальник снисходительно пояснил:
– У нас по району в прошлом месяце сколько народу снято с хлебобеспечения за выбытием про причине смерти? Восемьсот пятьдесят восемь душ. Вы, дураки, с вашей понедельной отчетностью сколько хлеба недополучили? Я прикинул. – Он показал листок, исписанный какими-то головоломными вычислениями. – Это ж почти полтораста пудов! А будем давать списки раз в месяц – весь этот хлебушек наш с тобой будет.
Когда Антон не согласился участвовать в операции «Мертвые души», начальник и не подумал от нее отказываться, а просто разжаловал «студента» обратно в конторщики, назначил на его место более покладистого – и более разумного. Хлеб так или иначе «уходил налево» (еще один неологизм революционного времени), только Антону ничего от этого не перепадало. А при ревизии стрелочником все равно оказался бы он, поскольку именно конторщику хлебсектора полагалось обновлять списки выбывших «пайкополучателей».
Под воздействием двух эмоций – обиды и страха – он совершил еще одну глупость, едва не закончившуюся роковым образом: написал про махинации в горотдел. Вызвали на разбирательство, и оказалось, что начальник еще раньше донес туда о «контрреволюционных тенденциях» конторщика Клобукова, распространяющего клевету на представителей народной власти.
Поверили, конечно, партийцу, а не бывшему сотруднику Следственной комиссии Временного правительства. Хорошо еще, дело было до выстрелов Каплан и Каннегиссера, не то Антон угодил бы в Чрезвычайку несколькими неделями раньше и, скорее всего, вместе с остальными арестантами, был бы расстрелян в первые, самые кровавые дни террора.
Сейчас, в ноябре, всё, что было до 30 августа, вспоминалось, как утраченный рай.
Неужели горожане действительно называли Моисея Урицкого «кровавым палачом»? За полгода нахождения на посту председателя Петрочека он отправил на тот свет – с соблюдением каких-никаких юридических формальностей – всего-то несколько десятков человек, притом действительно противников большевистского режима. А сколько было разговоров о «злобном упыре», о еврейской мести за погромы и черту оседлости!
И что же? Еврея Урицкого застрелил еврей Каннегиссер. Начальником ЧК стал потомственный дворянин товарищ Бокий. Тут-то и разверзлись хляби небесные, оттуда излился на город кровавый дождь. Прежний, настоящий Петербург утонул, ушел на дно, как барки, в которых топили арестованных офицеров – их взяли наугад, безо всякой вины, по адресным книгам. Петербург лег в землю вместе с сотнями чиновников и военных, расстрелянных сразу же, еще до официального объявления террора. А «Красная газета», как некогда маратовский «Друг народа», требовала всё новых казней, и передовицы выходили с огромными заголовками: «Кровь за кровь» или «К стенке!».
Город окоченел, потрясенный быстротой и средневековым варварством расправы. В России власть так не палачествовала со времен стрелецких казней – но тогда хоть был какой-никакой сыск, а ныне просто хватали и сажали в камеру смертников.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: