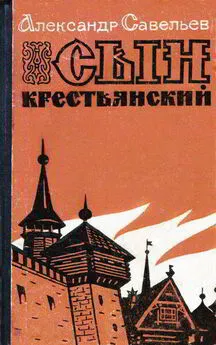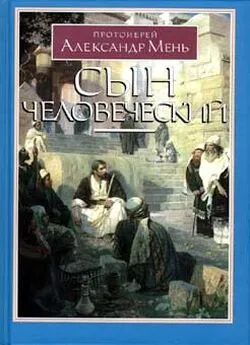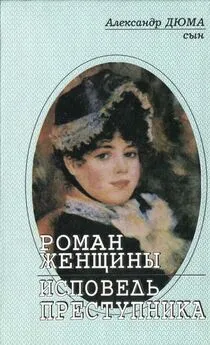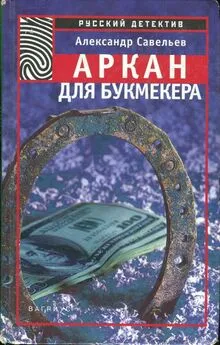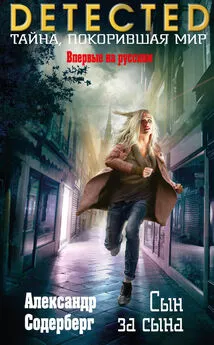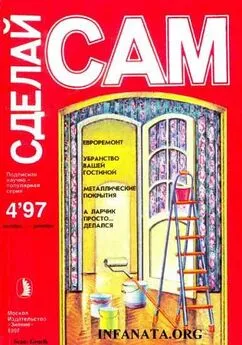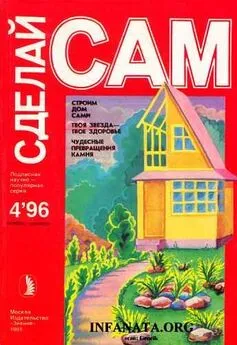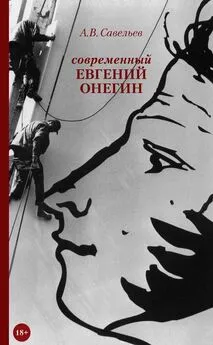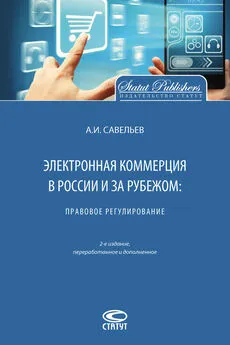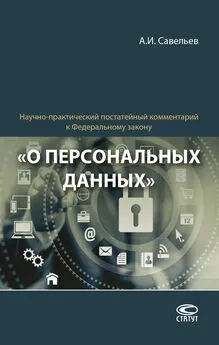Александр Савельев - Сын крестьянский
- Название:Сын крестьянский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Военное издательство
- Год:1967
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Савельев - Сын крестьянский краткое содержание
Работая врачом в г. Калуге, А. Савельев часто наталкивался на различные памятники старины, напоминавшие о великом народном восстании против феодалов и крепостников России начала XVII века. Блестящая защита Калуги народным войском под водительством Ивана Болотникова дала ему право посчитать крестьянского вождя знаменитым калужанином.
Настоящая книга писателя повествует о подвиге Ивана Болотникова и его соратников, совершенном в борьбе за освобождение народа.
Сын крестьянский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Иван Исаевич видел вдали двух конных в синих епанчах поверх панцирей, в шишаках. Епанчи развевались по ветру, конные самозабвенно рубились. Болотников узнал их.
— А, знакомцы Сумбулов и Ляпунов! Славно рубятся, славно! — воскликнул он, бросаясь с Олешкой в самую гущу. Здесь же рубились Юрий Беззубцев с донскими казаками и Федор Гора с запорожцами и украинцами.
Шли одновременно два боя: пехота на пехоту и жаркая кавалерийская схватка. Как в котле, кипели люди, кони… Ни та, ни другая сторона не уступала. Тут от Новодевичьего монастыря ударили свежие силы: полк Ивана Шуйского, отряды Крюк-Колычева, Мезецкого, Григория Полтева. Удар был неожиданным. Болотников приказал отводить ослабленные после боев войска в Коломенское и Заборье.
В бою второго декабря Болотников понес огромные потери. Не поздоровилось и победителям.
Яркая одинокая утренняя звезда на розовеющем небе. Над смутно-темными лесами лиловая громада туч. У опушки — огонек, который словно перемигивается со звездой. Перед лесами мерцающая белая с синевой снежная пелена. Морозный воздух искрится, переливается. Утренняя тишина… Но вот она резко нарушается: громадная людская туча выползла из лесов. В Коломенском народ высыпал на вал, с любопытством наблюдал за появившимися колоннами царского войска.
— Глянь, сколь их, тьма-тьмущая.
— Да, царь Шуйский забогател ныне ратным людом. Ишь строятся.
На поле пестрели цветные прямоугольники стрелецких полков, пешие и конные дружины, двигались пушки разных калибров. Все это войско двигалось в установленном порядке: впереди разъезды, артоул — конный полк; затем — передовой полк; за ним главные силы — большой полк, «наряд». Потом обозы. Сзади — сторожевой полк. На флангах — полки правой и левой руки. Зрелище было внушительное и устрашающее. Вскоре вся эта масса вновь пропала в лесах, окружающих Коломенское.
— Обложили нас, держись теперь, — говорили осажденные.
День и ночь били враги по Коломенскому из лесов, из невидимых пушек. Повстанцы держались стойко. Ядра не могли разбить вал из обледенелых саней. На четвертый день полетели ядра с огнем. Запылали здания. Сильный ветер раздувал пожар. Ночью было светло как днем. Дым, треск, летели пылающие головни, рушились избы, погребая под собой людей. Ржали лошади, выводимые из горящих конюшен. Народ как угорелый бегал по улицам. Тушить пожары не успевали. Новые ядра летели неизвестно откуда, загорались новые избы. Начиналась паника.
Болотников наспех собрал военачальников. Он, как всегда, был спокоен и решителен. Нетерпеливо ждали его веского слова.
— Вот что, други ратные! Выкуривают нас, как барсуков из нор. Сгорим, если останемся. Отойти надо. Не миновать того. По местам!
Через полчаса тронулись к Серпуховским воротам. Там уже была видна плотная фигура воеводы в шлеме, в нагольном полушубке. Он сидел на своем черном коне, освещаемый пожаром. Ворота со скрипом отворились. Конники, пешие, «наряд», обоз вытянулись длинной лентой по пути на Серпухов. А Болотников все стоял и смотрел на проходящую мимо него рать. Он приказал выставить заслоны на флангах и сзади. К нему и от него постоянно мчались гонцы. Врагов не видно и не слышно было. Воевода раздумывал: «Или выпустить нас вороги решили, чтобы далее мы от Москвы убралися?»
По пути до Болотникова добрался верхоконный. Был он в стрелецкой одежде. Лошадь добрая, сам молодой, лицо приятное, русоволос.
— Воевода! Тяжкое дело совершилося!
— Езжай рядом со мной и сказывай.
— Я из твоего полка, а родом сам с Москвы, из Заречья. Стояли мы у Рогожской слободы, заслон держали. И прорвались тогда, тебе ведомо, вражьи дружины и полонили они нас множество. Коих побили, коих в столицу погнали. На Москве-реке, у Кремля, стоят пустые лабазы. Зерна нету, ссыпать в них неча. Вот нас и загнали туда да замкнули на ночь. Раным-рано из лабазов повыгнали к Москве-реке. А кругом стража лютая; волки, а не люди. Чуть что — бьют, прямо до смерти. Чуем, что в воду сажать учнут. И в самом деле — я с горки глядел — подгонят с сотню к реке, бьют кувалдами по головушкам, за руки, за йоги хватают, раскачивают да в проруби, в промоины — бултых!
Думаю я про себя: пропал детинушка! С горя сел меж двух дровяных поленниц. Сижу, слезы горькие льются, а с реки кричат, на реке стучат все кувалдами.
Тут мне вспомнилось, что в кошелке у меня клюква, в тряпицу завернута. Ох, люблю ягоду эту! Наземь шмякнулся, тряпицу — на голову. Клюкву давлю, красная жижа течет по волосам, будто искровянили. И смех мне и боязно: а ну как стража увидит. За поленницами я упрятался, а смертничкам не до меня. Тряпицу сунул под дрова, сам брюхом на земле лежу, словно убиенный. Зачали гнать к воде и нас.
Стража прошла меж поленниц, ткнули меня сапожищем по головушке. Лежу, не шелохнусь. Слышу — бает один: «Сдох, пес! Кто его угораздил?» И ушла стража далее.
Не шелохнусь да слушаю, как с реки стучат, кричат… Долго шло избиение, под конец угомонилися. А там темь-матушка, моя защитница, наземь сошла. Я, крадучись, утек в Заречье, к отцу, к матери.
Маманя попервоначалу испужалась, когда узрела молодца в крови. А узнала, возрадовалась! И смеется и слезы льет. Известно, сердце материнское! А сама, как палка, тощая. Харч вельми плох. Папаня летось, узнал я, помер с голодухи. Несколько ден прожил я у родительницы. А дале не сподручно стало. Того и жди, на истцов нарвешься, да и неча мне у Шуйского быть! Снова подался до тебя, воевода наш.
По пути скрал в Ямской слободе коня у вражьего сотника, коего спровадил туда, иде же праведники упокоятся. Одежу его стрелецкую на себя надел. До тебя доскакал. Принимай.
— Ладно, принимаю!
Пасмурный ехал Иван Исаевич, ярко представляя себе весь ужас «сажания в воду».
К Болотникову подъехал Юрий Беззубцев. Вид его расстроенный и какой-то взъерошенный.
— Воевода, дело праховое!
— А что?
— Бежит, бежит народишко из войска нашего. Беда!
— Ведаю, что бегут. Тысячами к нам шли, отбою не было. Под Москвой заминка случилася, иные и струхнули. До хат подалися.
Беззубцев с проклятием огрел плеткой своего споткнувшегося коня.
— Не годится, коли до хат подалися. Слабже станем.
Болотников, поглаживая своего коня рукой, ответил:
— Слабже не станем. Кои шатаются, как конь твой, спотыкаются, тех нам и не надо. А кои в неудаче с нами осталися, те воины верные. И новые явятся. То приходят, то уходят. А ты глянь, сколь еще с нами идет, едет добрых молодцев! Красота!
Беззубцев поглядел на тянувшуюся великую рать, повеселело у него на сердце. Он засмеялся:
— У сотника Винокурова — сам я видел — кои до хат подалися с теми, кои осталися, слово за слово и подралися всласть. Смех и грех, как дети малые.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: