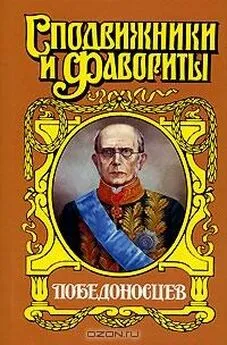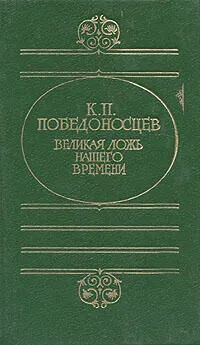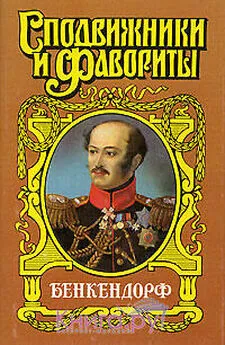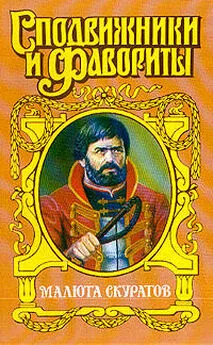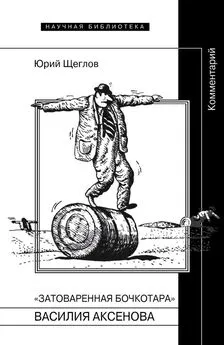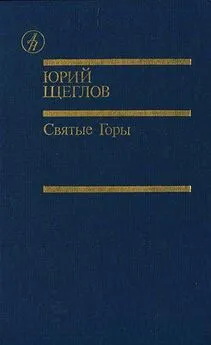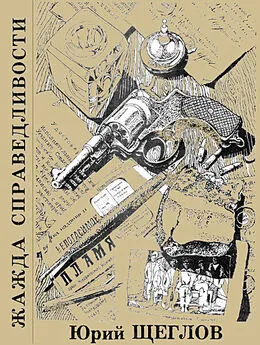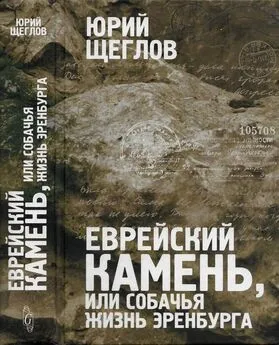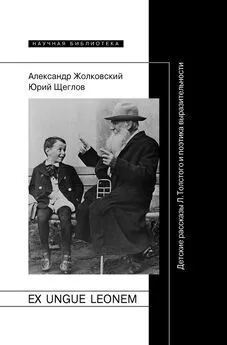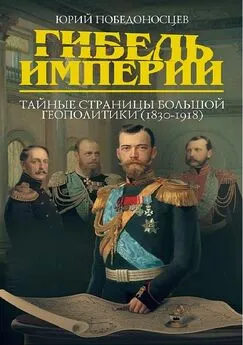Юрий Щеглов - Победоносцев: Вернопреданный
- Название:Победоносцев: Вернопреданный
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель: АСТ
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-17-022237-8, 5-271-08107-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Щеглов - Победоносцев: Вернопреданный краткое содержание
Новая книга известного современного писателя Юрия Щеглова посвящена одному из самых неоднозначных и противоречивых деятелей российской истории XIX в. — обер-прокурору Святейшего синода К. П. Победоносцеву (1827–1907).
Победоносцев: Вернопреданный - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Различный дар неприятия
Вот, собственно говоря, и все. Однако раздраженный Годунов-Чердынцев и выглядывающий из-за его плеча Владимир Набоков вслед так не любимому ими Чернышевскому утверждают абсолютно иное, и это надо подчеркнуть двумя волнистыми линиями — поразительно? Булгаковская сумятица охватила участников, как мы видим, нескончаемого сюжета.
Владимир Набоков пишет: «Духов день (28 мая 1862 года), дует сильный ветер; пожар начался на Лиговке, а затем мазурики подожгли Апраксин двор». Претензий к автору в данном случае нет. Он точно констатирует происходящие события. Но дальше начинается художественное или то, что выдается, к сожалению, за художественное. Набоков создает странный образ, который несколько не вяжется с тем, что мы знаем о Достоевском: «Бежит Достоевский, мчатся пожарные…» В разноцветных шарах «вверх ногами» на миг отражается бегущая фигура. Здесь внутреннее состояние взволнованного Достоевского принесено в жертву видимости, картинке, созданной в стиле модернистических увлечений автора. А там густой дым повалил через Фонтанку к Чернышеву переулку, откуда вскоре поднялся новый черный столб… Между тем Достоевский «прибежал». Ничего и отдаленно похожего у Достоевского в «Дневнике писателя» нет, и в других — его руки — источниках тоже нет, хотя движение пожара указано, насколько можно судить, верно.
«Прибежал к сердцу черноты, к Чернышевскому, — продолжает Годунов-Чердынцев-Набоков, — и стал истерически его умолять приостановитьвсе это. Тут занятны два момента: вера в адское могущество Николая Гавриловича и слухи о том, что поджоги велись по тому самому плану, который был составлен еще в 1849 году петрашевцами».
Откуда же Годунов-Чердынцев-Набоков взял истерику Достоевского и прочее? Ясно, что не из признаний в «Дневнике писателя». Тогда откуда? Из мемуарной заметки самого Чернышевского или из воспоминаний Шаганова, вышедших из печати в 1907 году.
Странно, ей-богу! Не доверять Достоевскому и идти след вслед за Чернышевским, который в «Даре» подвергся и осмеянию, и окарикатуриванию, и в общем, надругательству, неслыханному в отечественной словесности. Если признать, что «Крокодил» имеет отношение к Чернышевскому, то сравнить оскорбительность лепки там с утонченным издевательством в «Даре» нельзя.
Несомненно, Владимир Набоков и другие противники и критики Чернышевского правы в своих претензиях. Я тоже отрицаю гражданскую и политическую позицию Николая Гавриловича и отрицаю роман «Что делать?», а также эстетическую концепцию автора. Мне неприятно его письмо, адресованное Александру II из Петропавловской крепости, где он делает попытку самооправдаться и подводит коммерческий итог деятельности «Современника», убеждая императора, что ему нет резона выступать против правительства. Но я также и, быть может, с большей твердостью отрицаю глумливый и недостойный тон четвертой главы «Дара». Я не желаю смеяться над большевиками, которых сталинские палачи убивали в подвалах зданий на Каретном ряду и в подземельях Лубянки. Умирая с именем Сталина на устах, они оказались ужасной, но отнюдь не случайной и не карикатурной жертвой своей же политики насилия и своих отвратительных — примитивных — заблуждений. Но смеяться над ними?! О, нет! Глумиться, злорадствовать и кричать им в затылок: «Поделом!»? О, нет! А большевики первой и второй волны принесли мне и моей семье не меньше горя, чем Годунову-Чердынцеву и отвечающему за него Владимиру Набокову. Сами по себе обнаружившиеся противоречия в тексте «Дара» комичны, но свидетельствуют о весьма серьезном: в конце тридцатых годов Владимир Набоков еще не набрал настоящую облагороженную мощь и пробирался к заветной цели — разгрому антигуманистической сущности социализма лишь ощупью.
Еще два слова по поводу затронутого сюжета. Чернышевский относит упомянутую встречу с Достоевским к лету 1862 года. Через пару-тройку дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, слуга подал визитную карточку с фамилией писателя, не так давно возвратившегося с каторги и после солдатчины, Чернышевский тотчас принял посетителя. Как видим, расхождение значительное и важное. В то время в Петербурге распространялась прокламация «Молодая Россия», а не прокламация «К молодому поколению». Существо беседы изложено Чернышевским непохоже. Речь велась якобы не о прокламации, а о пожарах. Николай Гаврилович изображает Достоевского человеком с расстроенными нервами. В мемуарной записи есть неприличная фраза: «Увидев, что умственное расстройство бедного больного имеет характер, при котором медики воспрещают всякий спор с несчастным…» Жестко, гневливо, безжалостно, вроде обиделся на «Крокодила».
Ей-богу, Достоевский в отзывчивости и снисходительности к чужим слабостям опережал потерпевшего крушение Чернышевского. Но вот что поразительно, вот что странно: зачем Владимиру Набокову понадобилось плестись в хвосте у социалистического лжепророка, который столь грубо и беспардонно язвил память великого писателя? Зачем он заставил как безумного бежать Достоевекого, державшегося за шляпу? Ради чего? Ради скульптурно вылепленного кадра?
Нет ответа. Я большой поклонник поэзии Набокова. «Расстрел» сопутствует мне всю жизнь. Но я не в состоянии понять, как можно поэтов пушкинского созвездия называть второстепенными поэтами и в то же время бесконечно цитировать примитивно мыслящего литературоведа Бродского в комментариях к «Евгению Онегину»?
Прокламация «Молодая Россия», чьи крайности осудил даже не склонный к сантиментам Михаил Бакунин, и двухнедельные опустошительные пожары произвели на Константина Петровича неизгладимое впечатление. Он, я уверен, посетил выгоревшие места Петербурга, и, очевидно, тогда что-то сдвинулось в сознании одного из любимых цесаревичем наставников. Гарью отдавал воздух, гарью пропахла одежда, следы горелого остались на обуви. Он не имел оснований утверждать, что «Молодая Россия» и поджоги — дело одних и тех же рук, но связь, бесспорно, существовала. Мазурики ли подпалили, или кто-то их научил? Хотели подстрекатели вызвать возмущение мелких торговцев, рабочих и ремесленников, не успевших реализовать свой товар в лавках Толкучего рынка, или ими руководили непонятые нами мотивы? Рассчитывали ли Политические безумцы и демагоги на окровавленную вспышку недовольства, или Петербург стал жертвой случайностей и совпадений?
Нет ответа.
Воображаемый разговор
Как правовед Константин Петрович не счел бы для себя возможным кого-либо обвинить в намеренном преступлении. Однако последующие террористические акты навели его на грустные размышления. Это безусловно и иначе просто не могло произойти. Не мог он не затронуть эпоху пожаров и в разговорах с близко к нему стоящим в 70-х годах Достоевским, не мог он пропустить в дружеских откровениях и фигуру Чернышевского, и я полагаю, что оба обсуждали волнующее их, и не раз. По мемуарам, переписке и архивным документам немногое воскресишь. Здесь стоит сделать ставку на воображение. Есть же у Пушкина «Воображаемый разговор с Александром I». И знаете ли, куда как хорошо получилось! С грустными нотками и вместе с тем — с юмором и иронией. Как Константину Петровичу не взволноваться, когда до него дошли слухи, что радикально настроенные студенты вместо того, чтобы учиться, учиться и учиться, проектируют захватить цесаревича Николая Александровича в Царском Селе и за освобождение потребовать у императора принятия конституции!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: