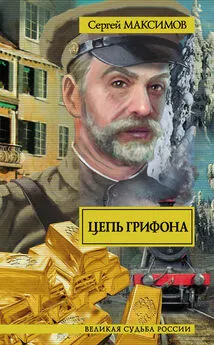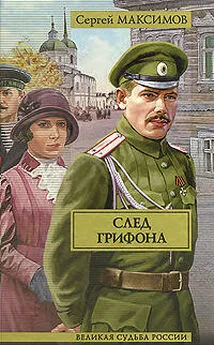Сергей Максимов - Цепь грифона
- Название:Цепь грифона
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-077881-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Максимов - Цепь грифона краткое содержание
Сергей Максимов – писатель, поэт, режиссер, преподаватель Томского государственного университета. Член Союза писателей России, многократный лауреат фестивалей авторской песни.
История жизни офицера русской императорской армии, одного из генералов нашей Победы, хранителя тайны «золота Колчака».
Честь, верность долгу, преданность и любовь вопреки жестоким обстоятельствам и тяжким испытаниям. Смертельное противостояние «красных» и «белых», страшные годы репрессий, операции советской разведки, фронт и тыл.
Яркие, живые и запоминающиеся характеры, написанные в лучших традициях отечественной литературы.
Судьба страны – в судьбах нескольких героев…
Цепь грифона - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Вот такие у нас дела, товарищ комиссар, – вставил своё слово и Гриценко.
– А ты, – обратился Ворошилов к Гриценко, – снаряди из своих хохлов пулемётную команду – и тоже на привокзальную площадь. Сразу пусть не светятся, а к началу разговора, чтоб все бывшие на мушке были. А то у них как всегда… по нагану по карманам… Короче, сам всё знаешь.
– Сделаем, – пообещал Гриценко. – Климент Ефремович, я этого бывшего полковника к себе заберу? Сдаётся мне, он не простой полковник. Шибко он грамотный, да молодой и ранний.
– Да погодь ты. С ним ещё особый отдел разговаривать будет, – попытался отмахнуться от Гриценко Ворошилов.
– Вот после разговора и заберу, – не унимался Гриценко. – Я уже второй месяц без начальника штаба воюю.
– А кто тебе виноват, что прежнего начальника штаба ты расстрелял?
– Не расстреляй я – бойцы порубали бы!
– Ладно. Там видно будет, – обнадёжил Гриценко Ворошилов.
Процедура вступления бывших офицеров в Конармию была отлажена до мелочей. Первым и самым унизительным её этапом часто был обыск и изъятие личного оружия бывших офицеров. Пика, шашка и винтовка – вот что положено иметь рядовому бойцу. Впрочем, пики в Конармии не жаловали. В ближнем бою предпочитали использовать револьверы и пистолеты. Но обзавестись наганами и даже особо ценимыми за вместительный магазин и точный бой маузерами позволялось не сразу. Зачислялись бывшие офицеры как рядовые бойцы. Но после первых боёв, если они оставались живы, их обычно использовали на командных должностях.
Процедура обыска часто происходила под стволами пулемётов. Офицеры, сопротивляющиеся обыску, безжалостно выбраковывались как не поддающийся перевоспитанию, не демократический элемент. С такими долго не церемонились. Бывало и так, что сразу отводили в сторону и расстреливали. Среди личных вещей искали следы пребывания в белой армии. Ордена не отбирали. Наоборот, интересовались – за что кресты получены? В Конармии все знали, что сам командарм Будённый – полный георгиевский кавалер. Он теперь не носит, но бережно хранит все свои награды. А свой первый крест вахмистр Будённый получил, говорили, ещё за русско-японскую войну в 1904 году. Награды могли многое рассказать. Так офицерский Георгиевский крест III степени у Суровцева красноречиво говорил о том, что, кроме этого креста, он награждён еще одним таким же IV степени. А также орденами Святого Владимира, Анны и Станислава, которые предшествуют награждению Георгием.
Собеседование в особом отделе начиналось с изучения послужного списка офицера. Записи в послужном списке обычно обрывались записью 1917 года. Круг вопросов крутился вокруг двух главных: «Где вы находились и чем занимались с октября семнадцатого года по сегодняшний день?», «Служили в белой армии?».
Суровцев по месяцам расписывал два года своей не простой жизни. Из его биографии этого периода следовало, что от всех мобилизаций как в белую, так и в красную армию он до сих пор уворачивался. Что было абсолютной ложью. Написал, что дважды перенёс тиф. Что было полуправдой. Но посвящать в истинные перипетии своей жизни этого периода он никого не собирался. Чем могли бы закончиться для него правдивые признания, можно было даже не сомневаться. На вопрос особиста-латыша «Почему вы вступаете в Красную армию?» – Суровцев молча протянул ему большевистскую «Правду» от 23 мая 1920 года с воззванием, начинавшимся словами «Ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились». Теперь, когда Суровцев дописывал свои «правдивые показания», чекист с интересом читал знаменитое воззвание. Вот строки из газеты:
«В этот критический момент нашей народной жизни мы, ваши боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды, кто бы и где бы их вам ни нанёс, и добровольно идти с полным самоотвержением в Красную Армию, на фронт или в тыл, куда бы правительство Советской Рабоче-Крестьянской России вас ни назначило, и служить там не за страх, а за совесть, дабы своей честной службой, не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить её расхищения, ибо в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за эгоистических чувств классовой борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли свой родной русский народ и загубили свою матушку Россию.
Председатель особого совещания при главнокомандующем А.А. Брусилов, члены особого совещания А.А. Поливанов, В.Н. Клембовский, Д.П. Парский, А.С. Валуев, А.В. Гутор».
С двумя генералами, поставившими свои подписи под воззванием, Суровцев был знаком лично. К штабу армии Брусилова он был прикомандирован разведывательным отделением Генерального штаба. Было это во время Брусиловского прорыва. А генералу Поливанову он был обязан зачислением в Академию. Его резолюция со словами «зачислить и старого и малого» определила в своё время направление всей жизни Суровцева.
– Я забираю вашу газету, – заявил с акцентом чекист.
– Как знаете, – ответил Суровцев.
Но оставить номер «Правды» в особом отделе армии не пришлось. Без стука в кабинет вошёл Ворошилов. С порога спросил:
– Закончил?
– Заканчиваем, – забирая у Сергея Георгиевича текст биографии, проговорил чекист.
– А это что у тебя? – Ворошилов, не церемонясь, взял со стола особиста «Правду».
Стал читать. Особист бросил недовольный взгляд в сторону Ворошилова, но ничего не сказал. Сам, так же молча, стал читать биографию бывшего офицера. Молчание нарушил Ворошилов:
– Так ты говорил на митинге, что воевал под командой Брусилова?
– Так точно, – ответил Суровцев.
– Пошли. Я его забираю, – заявил он чекисту. – Газету тоже возьму.
– Я ещё не закончил, – стал было возражать военный чекист.
– Потом закончишь. Я его тебе через полчаса верну. Иди за мной, – приказал он Суровцеву.
За десять минут до этого в штабе армии произошла примечательная сцена. Телеграфный аппарат Боде, только что приведённый в рабочее состояние, выдал сообщение. Минуя штаб фронта, Москва приказывала: «Буденному. Ворошилову. Двигаться в общем направлении на Киев. Ваши соображения после освобождения Киева. Брусилов. Поливанов».
– Какие соображения! У меня и карт дальше Киева нет! – раздражённо изрёк Будённый.
– Нам такое доверие оказывают, а ты злишься. Погоди, Семён Михайлович. Я сейчас, – сказал Ворошилов и быстро пошёл к входной двери.
– Ты куда? – спросил Будённый.
– У нас тут военспец один умный завёлся. Сейчас приду. А ты отстучи в Москву, что обдумаем и доложим.
– Давай, работай, – обратился Будённый к телеграфисту.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: