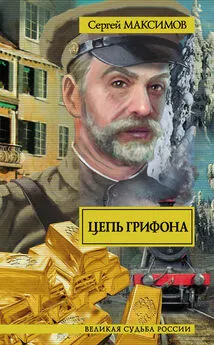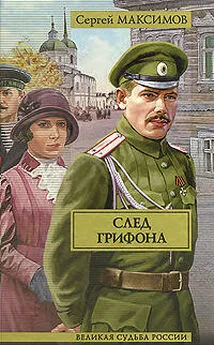Сергей Максимов - Цепь грифона
- Название:Цепь грифона
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-077881-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Максимов - Цепь грифона краткое содержание
Сергей Максимов – писатель, поэт, режиссер, преподаватель Томского государственного университета. Член Союза писателей России, многократный лауреат фестивалей авторской песни.
История жизни офицера русской императорской армии, одного из генералов нашей Победы, хранителя тайны «золота Колчака».
Честь, верность долгу, преданность и любовь вопреки жестоким обстоятельствам и тяжким испытаниям. Смертельное противостояние «красных» и «белых», страшные годы репрессий, операции советской разведки, фронт и тыл.
Яркие, живые и запоминающиеся характеры, написанные в лучших традициях отечественной литературы.
Судьба страны – в судьбах нескольких героев…
Цепь грифона - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Не знаю, радоваться мне или плакать, голубчик, но с моей квартиры сняли наблюдение, – встречая Суровцева, с порога сообщил Батюшин. – Нет англичан, нет французов, нет и наших…
– Я не знаю, что и сказать вам в этой связи, ваше превосходительство, – ответил Сергей Георгиевич, раскладывая на столе принесённые продукты, среди которых оказались две бутылки дорогого французского вина. – Я просил моряков не оставлять нас своим вниманием. Так что должны появиться.
– Признаюсь, огорошили вы меня своим предыдущим посещением. Но я вам глубоко признателен. Трудное это дело – носить в себе тяжёлые мысли.
– Мне тоже после нашей прошлой встречи легче дышится, Николай Степанович, – признался Суровцев. – А события между тем приобретают необратимый и трагический характер. Думаю, вам надо съезжать с квартиры на какой-нибудь пароход. Скоро свободных кают там не будет.
– Мне довелось однажды переночевать на «Весте». Никогда не предполагал, что корабельные крысы столь умны и беспардонны. Но не в крысах дело. Многие люди считают своим долгом интересоваться моим мнением по самым разным вопросам. А я не имею ни малейшего желания делиться своими наблюдениями и размышлениями. Я только что вскипятил чай, – продолжал он без всякого перерыва, продевая руки в рукава генеральского френча, – или будем пить вино?
– Во всём происходящем присутствует какой-то высший цинизм, – накрывая на стол, отвечал Сергей Георгиевич. – Все, кто желает и может воевать, отстранены от дела. Мало того, чувствуют приближение катастрофы и не могут реально влиять на происходящие события. Похоже на то, что даже степень и весь ужас поражения никто здесь, в Крыму, не желает ни понять, ни осознать.
– Для меня, голубчик, и нынешние и грядущие события не являются поражением… Это уже следствие… Своё поражение я пережил в доме предварительного заключения Петрограда с весны по осень семнадцатого года. Помните, как банкир Рубинштейн оказался на свободе, а вся моя комиссия была объявлена преступной? Вот уже тогда я понял, что моё дело проиграно. А началось поражение и того раньше. В четырнадцатом году. Тогда как раз, когда вы из Академии отправились не в распоряжение Главного управления Генерального штаба, а на фронт. Когда все предложения по организации контрразведывательной работы, в том числе и мои, при царском дворе положили в долгий ящик. Из которого так и не удосужились достать. А общим фоном моего поражения был и остаётся еврейский вопрос. Мы разворошили муравейник. Чёрт бы их побрал!
Суровцев знал подоплёку событий, о которых говорил Батюшин. Действительно, только приступившее к работе Главное управление Генштаба было расформировано летом четырнадцатого года. А несколько выпускников Академии, которых предполагалось использовать в контрразведке, отправились в действующую армию простыми армейскими офицерами. Правда, получив внеочередное воинское звание. Это теперь он был в состоянии понять раздражение своего благодетеля и покровителя генерала Степанова. А тогда по-мальчишески рвался на фронт.
Во время войны стали воссоздавать контрразведывательные отделения фронтов. К началу семнадцатого русская контрразведка только-только оформилась заново как самостоятельная структура. Знал он и о том, что с ликвидацией комиссии Батюшина арестованные ею банковские счета Волжско-Камского банка, Сибирского банка и банка Юнкера вернулись к перекачке финансовых средств на подрывную деятельность внутри страны. И все другие финансовые потоки, так или иначе направленные на подрыв русской государственности, несказанно оживились. А о том, что основные военные действия пришлись на районы, где проживало две трети еврейского населения Европы, он и думать не хотел.
– Что генерал Слащов? – поинтересовался Батюшин.
– Собирается просить назначения и выехать на фронт.
– Но нам с вами не нужно объяснять, что его ни при каких условиях не допустят к командованию. Это всё равно, как если бы жандарм Климович предложил мне назначение и должность в своей контрразведке. И ещё одна неприятность. Я не выполнил своё обещание. Документов о переговорах Врангеля с французами я не добыл. Англичане и французы позаботились, чтобы в штабе Русской армии в Крыму не осталось ни единой бумаги по этому вопросу.
– Кому теперь нужны эти документы, Николай Степанович! – воскликнул Суровцев. – А мы с вами и так всё знаем. Союзники не хотят иметь с нами дела.
Суровцев подошёл к открытому окну. Через улицу напротив окна генеральской комнаты находилось почти такое же небольшое окно мансарды соседнего дома. Две трети окна снизу были перекрыты занавесками. При этом форточка оставалась открытой. По прошлому своему приходу он помнил, что в этом доме снимал квартиру почтовый чиновник с семьёй. В прошлый приход Суровцев видел в окне детские лица и слышал детские голоса. Сейчас в мансарде напротив царила тишина.
– Никак, Николай Степанович, ваши соседи съехали? – предположил он.
– Точно так, голубчик. Переехали на пароход «Великий князь Алексей Михайлович», – ответил Батюшин, и взгляд его невольно устремился на фотографию в застеклённой рамочке, с которой он не расставался.
Батюшин тоже вспомнил детские голоса, ещё вчера доносившиеся из дома напротив. Бережно взял фотоснимок своей семьи. В который раз вглядывался в лица жены и четырёх детей: Ольги, Михаила, Татьяны, Елены. Ольге теперь девятнадцать. Младшей, Елене, – тринадцать лет. Был ещё один сын, умерший в годовалом возрасте, – Владимир. Шесть лет разлуки пролегало между ним и семьёй. И что самое страшное – это отсутствие возможности даже приблизиться. И основная причина в нём – в генерале Батюшине. Если Временное правительство посчитало его своим врагом, то что можно было ожидать от большевиков? Эти и до судебного разбирательства дело не доводят. Больше всего Николай Степанович боялся навлечь опасность на свою семью. Теперь жена и дети проживали в Казани у родственников.
Суровцев бросил взгляд на контрастный по отношению к вечернему южному небу, господствующий над Севастополем силуэт Сапун-горы. Посмотрел на быстро проявляющиеся в небе звёзды. Чуть прикрыл створки окна. Обернулся.
– Вот так и смотрю по вечерам… На ребятишек и на свою француженку-жену, – признался Батюшин.
Жена Николая Степановича – Инна Владимировна – носила в девичестве французскую фамилию Де Прейс.
– Поразительное дело, Николай Степанович, – признался Суровцев, – вы один из немногих людей, с которыми мне хотелось бы пить вино и беседовать.
– Это от того, голубчик, что нам с вами беседовать ни с кем больше нельзя, – рассмеялся Батюшин. – Не поймут-с, знаете ли! Должен признаться, вы меня раздражали в прежние годы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: