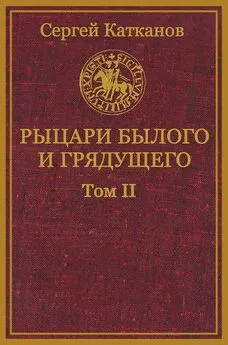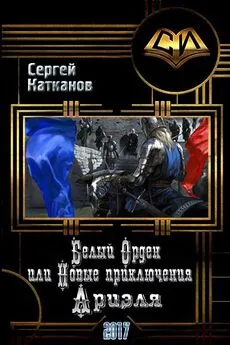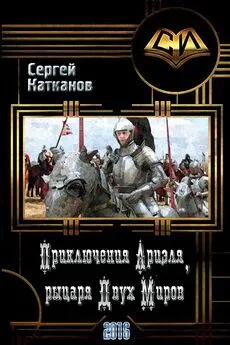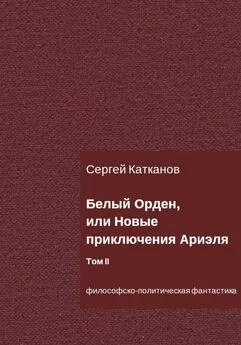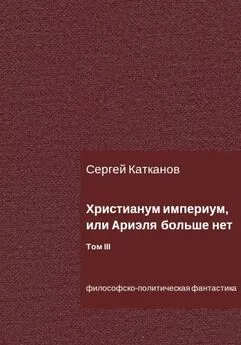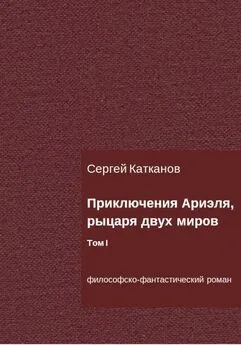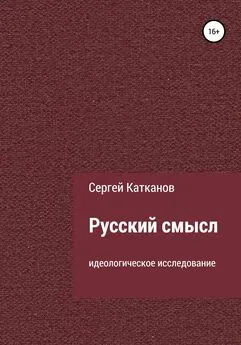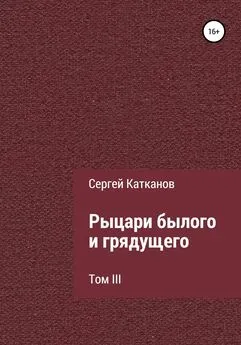Сергей Катканов - Рыцари былого и грядущего. Том II
- Название:Рыцари былого и грядущего. Том II
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Катканов - Рыцари былого и грядущего. Том II краткое содержание
Рыцарский Орден Тамплиеров не погиб в Средние века, а уцелел и ведёт свою нескончаемую борьбу с Сатаной и его слугами на Земле.
На Руси возникает Братство «Пересвет» — побратим ордена Тамплиеров — вдохновлённое идеей служения Христу не только молитвой, но и силой оружия.
Рыцари былого и грядущего. Том II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Глеб, ты всё прекрасно понимаешь. И Деникин, и Колчак, и Врангель хотели объединить под своими знамёнами все антибольшевистские силы, не время было делиться на партии.
— Ты сейчас говоришь, как мой отец. Мы с ним всё время спорили. Вот и он тоже говорил: «Надо было сначала прогнать большевиков, а потом уже и заняться вопросами политического устройства России. Исходя из этого, Добровольческая армия правильно определила свой основной лозунг: «За единую и неделимую Россию». Этот призыв объединил всех белых, независимо от политической ориентации». А я ему: «Папа, ты что не видишь, что эту главную белую цель весьма успешно осуществили сами большевики? И потеряли-то лишь Польшу и Финляндию, часть которых к тому же вернули, да ещё добавили пол-Сахалина и Кенигсберг. Вот тебе, пожалуйста, «Единая и неделимая Россия» — страна, в которой мы живём. Чем же она тебе не нравится?». А он мне: «Тебя, Глеб, там не было. Легко быть умным на чужом месте. Ты суесловишь, а они сражались и гибли».
— А, правда, Глеб, если бы ты был там, то как бы разрубил этот «гордиев узел»?
— Очень просто. Создал бы монархический батальон, призвав под своё знамя всех, кто сохранил верность присяге Государю Императору. Уверяю тебя, что вскоре у нас уже был бы монархический полк, а там и дивизия.
— И вы вступили бы в бой с деникинцами, воевавшими под звуки «Марсельезы»?
— Нет, мы постарались бы установить ними союзнические отношения. Но мы — это были бы мы, а они — это они. И мы начертали бы на своих белых знамёнах простые, всем понятные и ещё не забытые русским народом слова: «За веру, царя и Отечество». Вера — понятно, царь — понятно, а с ними и Отечество тоже становится понятным. Оно уже не какое-то там абстрактно неделимое, ибо неделимого-то как раз и нет ничего в природе. Отечество наше — управляемое царём именем Бога. Мне рычать хочется, когда я вспоминаю большевистскую песню: «Белая армия, чёрный барон снова готовят нам царский трон». Если бы это было правдой, если бы «чёрный барон» действительно готовил для России царский трон, так мы бы победили. Мы пели бы, бросаясь на большевиков: «Царствуй на страх врагам, царь православный». И страх наших врагов был бы воистину велик. И русский народ пошёл бы за нами, потому что он царелюбив, наш народ. Но этого уже не будет. Мой отец не завещал мне ничего, кроме ненависти. И вот теперь какую клятву я должен принести на могиле своего деда? Сражаться до смерти? Да не проблема. Я всё равно погибну на гражданской войне, для меня эта война не закончится, пока я жив. Но во имя чего я погибну? Не знаю.
— Тогда поклянись, что узнаешь это раньше, чем погибнешь.
Глеб с удивлением посмотрел на Ансельма:
— Может быть… Дело говоришь. Ты со мной, Ансельм?
— Конечно, — юный француз улыбнулся столь непринуждённо, как будто они договорились пойти в кино.
Ансельм и Глеб стали неразлучны, встречаясь почти каждый день. Они гуляли, спорили, чуть ли не ссорились, потом мирились и уже не могли друг без друга жить. Ансельм помог Глебу устроиться на работу в русское издательство. Глебу не понравилась псевдорусская среда, но это был для него твёрдый кусок хлеба, к тому же он там получил доступ к таким книгам, к каким и прикоснуться не мечтал в Союзе. Иногда они ходили на богослужение в православный храм, но не часто, спорить было интереснее.
— Ансельм, да ты и представить себе не можешь, насколько ты любишь Достоевского.
— А за что мне любить этого в высшей степени вредного писателя, с таким блестящим талантом насаждавшего ложные представления о христианстве?
— Да за то, что вы с ним — родственные души. Ты смотришься в Достоевского, как в зеркало, узнаёшь самого себя и злишься на собственное отражение.
— Спасибо, утешил. Во мне, должно быть, и правда мало духовного здоровья и внутренней силы настоящего христианина, но мой идеал именно таков, и он ни мало не похож на князя Мышкина.
— А ты встречал таких вот — внутренне сильных и духовно здоровых христиан?
— Боюсь, что нет.
— А вот если бы встретил, тогда вам было бы о чём поговорить с Фёдором Михайловичем в тонах куда более дружелюбных. Пойми же ты, Ансельм, что князь Мышкин — реальность, а твой идеал — абстракция. Конечно, реальность всегда проигрывает идеалу в непогрешимой безупречности, но воплотись твой идеал, он, может быть, побежал бы к князю Мышкину за советом и правильно сделал бы. Да и ты ещё побежишь, благо это будет несложно, ведь ты же с Мышкиным ни днём, ни ночью не расстаёшься — споришь с ним, как со мной.
— Ну не мой это писатель.
— Ладно, уймись. Все хорошие писатели — твои. Они друг друга объясняют. На чём ты там у себя в Сорбоне защищаться намерен?
— Моя работа имеет пока рабочее название «Антидостоевский».
— Да глупее ничего и представить себе невозможно. Ну почему мы все, едва у нас душа загорается, тут же становимся какими-нибудь «анти». «Антибольшевизм», «Антидостоевский».
— Потому что у нас нет позитивной программы.
— Красиво сказал. Умно и элегантно. Так мы и потонем в своей бесплодной интеллектуальности. Мы ведь даже не хотим выгребать ни к какому твёрдому берегу.
— Что-нибудь посоветуешь? — раздражённо буркнул Ансельм.
— Ну почитай вот хотя бы Ивана Шмелёва. Только не «Солнце мёртвых», не надо. Возьми «Лето Господне» — это позитив.
— Шмелёв? Я и не слышал про такого.
— Ещё бы тебе в Сорбоне про Шмелёва рассказали. Можно подумать, твоя alma mater очень сильно отличается от МГУ.
Иван Шмелёв очаровал Ансельма. Глеб был прав, именно такой вот кристальной и прозрачной, здоровой и здравой ясности так жаждала его душа. Мир Шмелёва — мир бытовой и волшебный, приземлённый и возвышенный, близкий и недоступный, был тем миром, в котором Ансельм хотел жить. Здесь сам воздух был пронизан чудным православным духом, а ведь это не жития святых, это повседневность подлинного русского мира.
— Разве не за этот мир должны быть сражаться белые? — спросил Ансельм Глеба.
— Надгробия Сен-Женевьев-де Буа нам ничего не должны. Ту фазу гражданской войны мы давно проиграли. И сегодня мы не можем сражаться за тот мир, потому что его нет и никогда не будет.
— Почему же не будет?
— Да потому что русских больше нет. И французов тоже нет. Кругом сплошная «Марсельеза» — и в России, и во Франции. Ты посмотри во что выродились твои соотечественники безо всякого большевизма.
— Я не француз. Я франк.
— Всё это игра словами. Забудь, Ансельм. Франков тоже больше нет.
— Но мы-то с тобой — есть!
— А я и в этом не уверен.
— Я ушёл из университета, Глеб. Я больше не специалист по русской литературе, — на лице Ансельма застыло удивление, как будто он и сам не верил в то, о чём говорил.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: