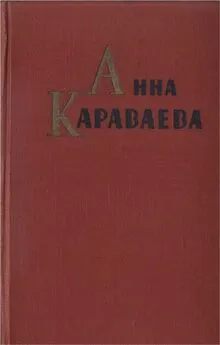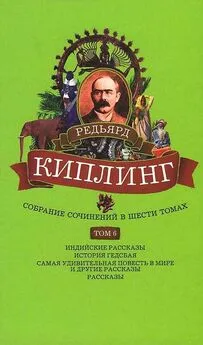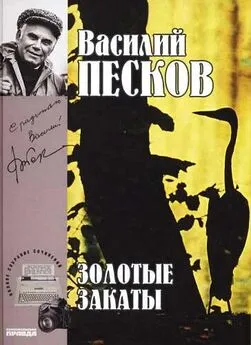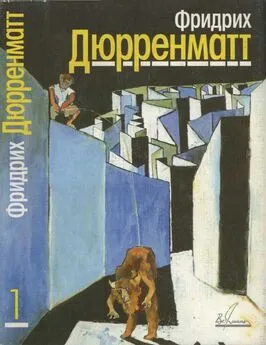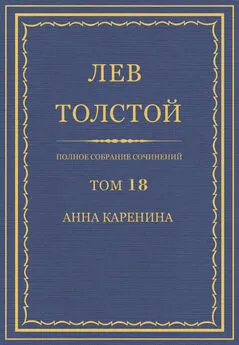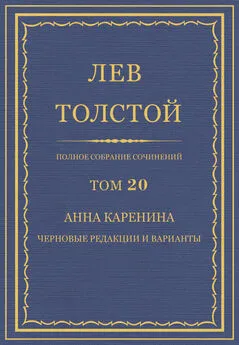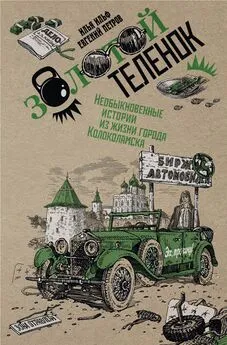Анна Караваева - Собрание сочинений том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице
- Название:Собрание сочинений том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство художественной литературы
- Год:1957
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анна Караваева - Собрание сочинений том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице краткое содержание
Произведения, вошедшие в книгу, представляют старейшую писательницу Анну Александровну Караваеву как исследователя, влюбленного в историю родной страны. В повести «На горе Маковце» показаны события начала XVII века, так называемого Смутного времени, — оборона Троице-Сергиева монастыря от польско-литовских интервентов; повесть «Золотой клюв» — о зарождении в XVIII веке на Алтае Колывано-Воскресенских заводов, о бунте заводских рабочих, закончившемся кровавой расправой царского правительства над восставшими.
Собрание сочинений том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нам представляется, что она считала себя фактической царицей, хотя бы вот по какому выразительному документу, дошедшему до нашего времени: по приказу Софьи был отпечатан ее портрет в царском облачении. На этой затейливо разукрашенной гравюре Софья изображена в окружении ее семи добродетелей: разума, благочестия, щедрости, великодушия, надежды, правды, целомудрия.
Как и мечтала Софья, первым ее советником, а в глазах Европы — первым министром стал Василий Голицын.
Вот тут бы и претвориться в жизнь всем его мечтам. Он, например, мечтал о широком развитии русской торговли, о просвещении дворянства, особенно его молодых поколений, об укреплении финансов, об улучшении путей… Мы уже говорили, что только ничтожную часть, вернее, почти ничего из этих планов преобразований Голицын не претворил в жизнь — он оказался ниже своих мечтаний и стремлений. Обратить мечту в реальность, драться за нее, как за кровное свое дело, — вот этого-то как раз он и не мог.
Как мы уже отмечали, он хорошо умел делиться с другими своими мечтами, умел рассказать красиво и вдохновенно о том, что еще не существует. Но, вероятно, всего прекраснее казались ему эти мечты, когда московский философ и покровитель западных новшеств оставался один в нетревожимой никем тишине своего дома в Охотном ряду.
Он писал, вдохновенно кусая перо, или ходил по комнате, тихонько пошаркивая тонкими подошвами бархатных домашних сапог, и размышлял в бережно хранимой тишине. И, словно отвечая его мыслям и вызывая его на новые мечты и фантазии, смотрели на него с расписных стен «разные персони» — сказочные красавицы, звери, птицы. Они резвились в кудрявых тенистых лесах, у голубых вод, среди трав и пышных цветов. Да и все в этих палатах ласкало его глаз и сообщало часам одиночества опьяняющую прелесть. Пол, «кирпишной, аспидной», был устлан драгоценными коврами; скамьи и прочая мебель, как и стены, были обиты тисненой кожей, «английским» или червчатым дорогим сукном, отделаны резной жестью, украшены живописью. Одеждам — парче, бархату, сукну, атласу, посуде — золотой, серебряной, оружию — старинному, русскому и иноземному не знали здесь ни числа, ни цены. Пышно убранные комнаты щеголяли еще одним западным новшеством — часами. Их насчитывалось до десятка: часы «боевые» — с гирями и с музыкой, часы фигурные большие и малые в медной, черепаховой, серебряной, позолоченной и красной кожи оправе. Это обилие вещей, выполнявших, с общежитейской точки зрения, очень маленькое дело (эка невидаль, время считать!), возбуждало впоследствии злость и досаду людей, которым пришлось заниматься описью голицынского имущества. Часы, заморские новинки, как редкостные вещи, приходилось поименовывать особо, и вот, с нескрываемым осуждением, как бессмыслицу, описывали московские дьяки фигурные часы в доме западника: «Олень серебряной на поддоне, в поддоне заводные колеса, а на олене мужик, а под оленьими задними ногами мужик же, на коне, на поддоне же две собаки в чепях». Может быть, в самом деле в этом доме, сообразно западному духу, уже научились считать и ценить время? Нет, здесь эти занимательные машины играли марш и отбивали часы только для ушей, но не для сознания. Времени здесь не ценили и не замечали, как не замечали и многого другого. У «западника» оказался на поверку удивительно тугой к жизни слух и незоркий глаз. Он жил, не замечая того, что кора эпохи перед глазами его трещит и лопается, как яичная скорлупа от нетерпеливых ударов клюва цыпленка. А что железный птенец в своем Преображенском готовился выйти на волю, — об этом князь Василий Голицын едва ли помышлял всерьез: царственные юноши на Руси росли безобидно, набираясь ума потихоньку да полегоньку от отцов да дядьев. Плох ли пример Михаила Федоровича Романова, который немало времени, пока у него борода росла, жил умом и опытом отца своего, патриарха Филарета? Не замечал князь Василий Голицын брожений среди стрельцов и чужих приготовлений к возможной встрече нового царя, а с ним и иной эпохи. Она, как чудо-младенец, уже показывала себя ранними из ранних зубами — яузским ботом, «потешными боями».
Из дворцовых «робяток», сверстников Петра, образовались «потешные» полки, названные по имени двух подмосковных сел Преображенским и Семеновским. Прошло несколько лет, и из «потешных» полков выросли всамделишные солдаты и офицеры, военную выучку которых уже нельзя было сравнивать с простецки обученными и плохо дисциплинированными стрелецкими полками. Вместо «потешных» крепостей в Преображенском выстроена была настоящая крепость с оружейным двором, с башнями, рвами, перекидными мостами — крепость, которая могла даже выдерживать продолжительную осаду. Преображенцы и семеновцы были преданы своему юному царю-полководцу, а стрельцы были своенравны, отсталы и всегда могли стать игрушкой в борьбе придворных группировок. Мечтая об единоличной царской власти, Софья больше не хотела зависеть от стрельцов и ждала случая обуздать стрелецкую вольницу. Узнав, что стрельцы под руководством начальника стрелецкого приказа князя Хованского готовят новый дворцовый переворот, Софья предупредила это выступление. Она казнила Хованского и его сына, круто расправилась с разными привилегиями стрельцов и назначила начальником стрелецкого приказа преданного ей Федора Шакловитого.
Как в расправе с Хованским, так и во всех решительных поворотах политики Софьи князь Голицын не участвовал. Может быть, эта властная, честолюбивая женщина оберегала своего «друга сердечного», а может быть, она разгадала его неспособность к решительным действиям и перестала надеяться на его помощь.
За какой-нибудь месяц до падения Голицына к Посольскому приказу подъехала иноземного вида карета. Оттуда легко выскочил франт в шелковых чулках, бархатном плаще, в широкополой шляпе с развевающимися перьями. Стрельцы, прыская от смеха, глядели на длинные, как у женщины, кудри его светло-каштанового парика. Незнакомец важно поднимался по лестнице, и лицо его с розовыми бритыми щеками и маленькой острой, как штык, бородкой сохраняло невозмутимо-гордое и презрительное выражение. Через толмача он попросил провести его к «первому министру» князю Василию Голицыну. Незнакомец был сразу же принят в большом зале, где Василий Васильевич заседал в тот час со своим советом. Он приказал подать незнакомцу кресло и по-латыни спросил о его доверительных письмах. Незнакомец сразу расцвел улыбкой и с придворными поклонами передал требуемые письма на имя дворянина де ля Невилля, посла дружественной Польши. Его приняли с подобающими почестями. Но польским послом Невилль никогда не был: он просто самочинно назвался им, чтобы вернее выиграть дело, для которого приехал. Дворянин де ля Невилль был дипломатическим агентом Людовика XIV. Этот надушенный француз в кудрях и бантах был одним из тех разъездных дипломатов, которые прошли тончайшую иезуитскую школу придворных интриг и политического шпионажа. Он должен был выведать, для каких это переговоров приехали в Москву бранденбургский и шведский посланники, не затевается ли что против Франции. Пока он ждал аудиенции у молодых царей, он успел обегать всех иностранных послов, разузнать все московские и международные сплетни и возненавидеть Московию. Все виденное им у «этих варваров» претило ему, все было высмеяно, даже почести, которыми его окружали. «Присланный мне царями обед состоял из огромного куска копченого мяса, в сорок фунтов весом, многих рыбных блюд, приготовленных на ореховом масле, полсвиной туши, непропеченных пирогов с мясом, чесноком и шафраном и трех огромных бутылей с водкой, вином и медом; по исчислению присланного можно понять, что обед был мне важен как почесть, а не как угощенье» [127] Невилль, Записки о Московии, 1698.
. Он нагло поблагодарил царедворцев за присланные яства, заметив при этом, что оценить русские лакомые блюда он все же не мог по достоинству.
Интервал:
Закладка: