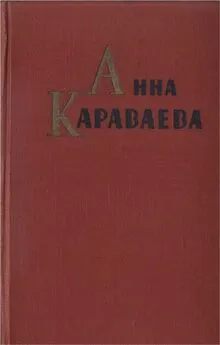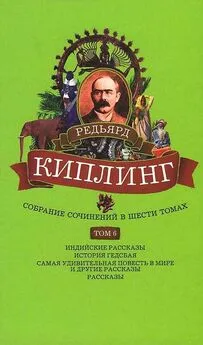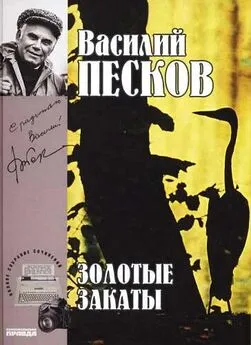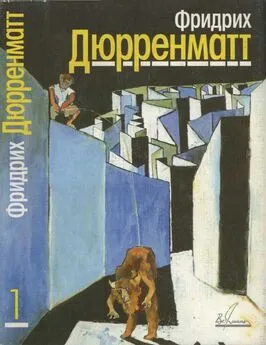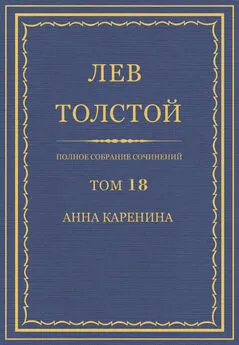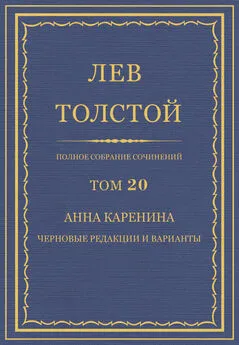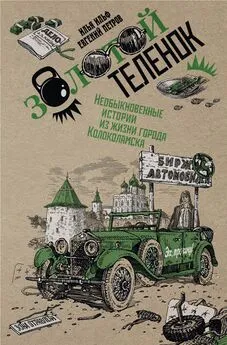Анна Караваева - Собрание сочинений том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице
- Название:Собрание сочинений том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство художественной литературы
- Год:1957
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анна Караваева - Собрание сочинений том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице краткое содержание
Произведения, вошедшие в книгу, представляют старейшую писательницу Анну Александровну Караваеву как исследователя, влюбленного в историю родной страны. В повести «На горе Маковце» показаны события начала XVII века, так называемого Смутного времени, — оборона Троице-Сергиева монастыря от польско-литовских интервентов; повесть «Золотой клюв» — о зарождении в XVIII веке на Алтае Колывано-Воскресенских заводов, о бунте заводских рабочих, закончившемся кровавой расправой царского правительства над восставшими.
Собрание сочинений том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— В боярской двор ворота широки, а вон пойти — узки, червяку не проползти, — усмехнулся Афонька и добавил, облизывая губы: — Не, уж мы биты-пороты, бог не за нас, а за палку, коя по нашей спине ходит…
— Ишь ты какой! — усмехнулся Федор. — Ладно тебя Диомид не слышит, а то поволок бы тебя, раба божьего, под Каличью башню.
— Эх, Федор Ондреич-свет, — и Митрошка обреченно вздохнул. — И верно то: обмаливать нас, горьких, некому, порадеть да потужить о нас в государстве паки некому. Царь от бога, пристав здесь на земле, царское око сигает далеко, за волос дернет — всю бороду отхватит. Бога возьми — нас в храм свой не примает, архимандрита на нас наслал, а тот побил нас пребольно… Вот мы, бедные, беса себе, яко старшого, избрали, — со спокойным отчаянием закончил Митрошка.
— Ух ты-ы! — весело подхватил Афонька. — Уж коль пошла душа по рукам, черта не минет! Коль ни богу, ни царю не надобен, — с бесами подружися…
Пользуясь тем, что в кабаке никого не было и даже кабатчик спал, привалясь к пивной бочке, Афонька перекрестился левой ногой и, глядя в угол, гнусаво и озорно заговорил:
— Чертушка, шишига, луканька, хохливой, хвостатой, мордатой, тебе кланяюся, с тобой дружуся, ты — наша надежа, наша заступа, будь помощничком, буйным угодничком!
Федору даже стало жутковато от этого издевательского моленья вконец отчаявшихся людей.
— На-кось, пригуби пивца-то, дай языку роздых!
Расставшись со скоморохами, Федор задумался о своей судьбе. Похоже было, что поимка ему не угрожает. После боярина Василия Борисыча Пинегина-старшего наследников не осталось. Трое детей его один за другим померли от огневицы десять лет назад, а вдова-боярыня недавно постриглась в Хотьковский монастырь. Боярин Пинегин-младший только что потерял единственного сына — в бою с Тушинским вором — и пребывает в великом смятении духа, и ему уже не до розысков беглых тяглецов, да к тому же не от него, а от брата, чье имущество и земли отписаны Троице-Сергиевой обители. Нет, хватать Федора Шилова некому. Но куда он денет силу своих умелых рук, к кому пойдет? Опять к Пинегину, только младшему? Вернется к тому же, от чего бежал, будто бы и не было страдальческих скитаний? Много ли ему одному надо? Жениться опять — курам на смех: кто за такого — лысого, испитого — пойдет, да и разве найдется на свете такая женщина, кого бы он любил так, как Алену?.. А если суждено ему доживать век одному, стоит ли опять закрепляться в тяглецы? Да и сказать правду: обращаться с оружием всякого рода, с железом, со сталью, ковать, заряжать пушку, ездить на коне — все это он теперь умеет делать гораздо лучше, чем ковырять сошкой подмосковный суглинок. Он, Федор Шилов, не просто русский мужик — он землепроходец, мастер-оружейник, военный умелец, ловкий наездник. Вот бы отдать все эти уменья Ивану Исаевичу Болотникову! Эх, Иван Исаич-свет, буйная голова… Предали его все те же бояре-супостаты, дворяне-вотчинники, бросили его жалкие трусы, а народ слаб, не развернулся еще во всю силу, еще под спудом та сила, тяжким камнем завалена. Пропал Иван Исаич, разбрелся народ, раскидали его костер, что пылал под самой Москвой, народной кровью огонь залили.
«Али в скоморохи мне пойти, купно с Митрошкой да Афонькой по градам да весям шататися, народушко потешати, назло попам да ярыжкам?» — наконец подумал Федор и только успел усмехнуться, как кто-то позвал его:
— Эй… ты, скоморохов дядька!
Федор обернулся. Около калитки нового рубленого теремочка стоял вчерашний чернобородый монах Диомид и пальцем манил к себе.
— Меня кликал? — изумился Федор.
— Тебя, чадушко, тебя, — радушно сказал Диомид. — Поди-ко сюды, скоморохов плательщик, щедра сума, у меня до тебя докука есть.
Федор подошел.
— Ну, говори докуку свою.
Монах, обдавая Федора бражным перегаром, забубнил хриплым басом:
— Наш воевода монастырской, князь Григорий Долгорукой, наказал мне выискать ему поболе мастеров оружейных дел и пушкарей и навычных зелье пушечное [70] Порох.
изготовляти. Слыхал я, ты к тому гож, да примечал, и грамоте разумеешь…
— Зорко примечаешь, — улыбнулся Федор. Наблюдательность чернеца ему понравилась, а известие о приказе воеводы поискать оружейных дел мастеров шло навстречу желаниям Федора.
— Не мешкая, ступай к воеводе Долгорукому, скажи, что Диомид тебя послал.
Федор начал было расспрашивать, где ему найти воеводу, но монаху объяснять было некогда — в теремном оконце показалось румяное круглое лицо, и пухлая женская рука уже нетерпеливо помахивала чернецу.
«И вели в кузнице ядро гораздо разжечи да положи ево таково раскалено клещами железными в пушку…»
Онисим Михайлов. «Устав ратных, пушечных и других дел». 1607–1621 гг.У стен монастыря по-прежнему гомонила толпа. Федор заметил, что крестьянских лошаденок стало еще больше и кричали здесь сильнее, чем вчера. «Вздыманой народ», — повторял Федор полюбившееся ему слово, пробиваясь к воротам.
В монастыре его сразу провели в воеводскую избу. Воевода, князь Долгорукой, пожилой человек с пышной волнистой, как женские волосы, каштановой бородой и сонным взглядом маленьких заплывших глаз, лежал на широкой лавке, навалившись спиной на гору шелковых подушек. Старуха в темном шушуне растирала его толстую волосатую ногу какой-то пахучей мазью, от которой Федору сразу захотелось чихать.
— Ништо, доброй человек, не дивись, — сказал воевода тенорком, который совсем не шел к его грузному, большому телу. — Нога-то, вишь, у меня в походе́ изувечена, когда при царе Борисе, — царство ему небесное, — под Москвой татар отражали… С той поры вот к погоде и маюсь.
— Эко, — прервал он себя и, сильно дернув больной ногой, грубо толкнул в плечо маленькую старушонку в шушуне [71] Шушун — шубейка, телогрея.
. — Эко несмышлена ты, мамка, словно берестяными руками трешь, дура богова!
— Да што, батюшко, рученьки-то натруже-на-и-и… — пугливо зашамкала старуха. — Силушка-то моя уж к концу приходит.
— Ну, ладно, ладно… — смягчился воевода. — Пошибче три, дабы тепло по ноге разошлось.
Федор, отметив про себя, что князь Долгорукой говорлив, зол, хотя и отходчив, решил держаться с ним осторожнее.
Воевода стал расспрашивать Федора о пушках, пищалях [72] Пищаль — старинное огневое орудие.
, о камнеметах, о делании пороха.
— Какое пушечное зелье изготовлять умеешь? — спрашивал воевода, морщась от боли в ноге.
— Коли слабое зелье, надобно сыпать три, а то и четыре части селитры, две части серы и одну угля. А коли ядреное зелье надобно, то к тем же частям угля да серы возьми пять или шесть частей селитры, да нашатыря, да мышьяку, да ишшо амбры прибавь — и будет доброе пушечное зелье. А дабы то зелье громче стреляло, смочи его вином, уксусом, прибавь камфары и ртути.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: