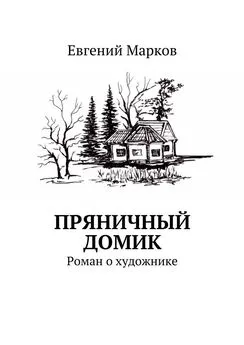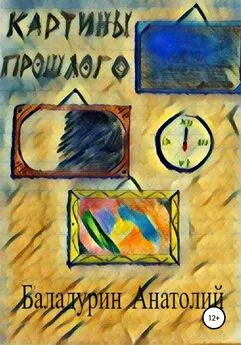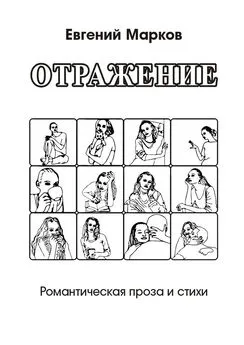Евгений Марков - Барчуки. Картины прошлого
- Название:Барчуки. Картины прошлого
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Стасюлевич
- Год:1875
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Марков - Барчуки. Картины прошлого краткое содержание
Воспоминания детства писателя девятнадцатого века Евгения Львовича Маркова примыкают к книгам о своём детстве Льва Толстого, Сергея Аксакова, Николая Гарина-Михайловского, Александры Бруштейн, Владимира Набокова.
Барчуки. Картины прошлого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Марков Е. Л.
Барчуки. Картины прошлого
Посвящается моей матери
Несколько слов для вступления
В этой книге я собрал свои воспоминания детства. Они были напечатаны в разных журналах в разное время, в «Русском вестнике» в 1858 году, в «Отечественных записках» в 1865 и 1866 годах, в «Вестнике Европы» в 1874 году. Только один рассказ печатается в первый раз. Рассказы мои отрывочны, в них нет никакой внешней связи, никакой фабулы или интриги… Но все они — картины одной и той же жизни, одного и того же века, все они — портреты одной семьи. В этом их внутренняя связь.
В наши дни воспоминания детства из 30х годов звучат чем-то давно прошедшим. Свежо предание, а верится с трудом. Эти воспоминания относятся к эпохе крепостного помещичества, ещё не потрясённого сомненьями и ожиданьями; они дышат целостностью настроения, которого уже не может быть в детях нашего времени, — времени отрицанья, колебаний и переходов.
Бесхитростные впечатления ребёнка чужды критического отношенья ко злу своего века, и сладкими соками этого зла он наслаждается в полной наивности. Не дело его возраста и не дело откровенных воспоминаний принимать на себя обязанность обличенья и укоризны. Разве он виноват, что его детство было детством крепостной эпохи? Жизнь живётся раз. Заря жизни, — это «златая, с перстами пурпуровыми Эос», — восходит всегда в розовом свете. Радость первого трепетанья бытия не забывается сердцем, но никогда не бывает она такою жгуче-сладкою, как в воспоминаниях человека, которых окончил подъём в гору жизни, перешагнул роковую границу и начинает с тихой печалью спускаться по ту сторону, к закату…
Человеку дороги его убежденья, его взгляды на образы людских дел… Его мысль неудержимо стремится судить настоящее и прошлое. Но не менее дорога человеку и жизнь сама по себе, — an sich und für sich, — без всякого отношенья к направленью мысли, к практическим и умозрительным целям, та, о которой говорит поэт: «Жизнь для жизни мне дана».
Этой именно жизни посвящены мои воспоминанья, тому раю непосредственного детского бытия, когда человек ещё питается плодами одного «древа жизни» , не искушаясь ещё соблазнительными плодами «древа познания» ; когда всё в мире кажется ему «добро зело», потому что «бысть утро и бысть вечер, день первый».
Многие зрелые люди читали в своё время мои детские очерки с тем тёплым чувством, которое диктовало их автору… Молодёжь тоже встретила живым сочувствием эти понятные ей, ей близкие и беззаветно правдивые рассказы. Это обстоятельство ободрило нас к тому, чтобы собрать отрывочные, в разных местах рассеянные рассказы в отдельную книгу.
Среди бедности и натянутой искусственности нашей детской литературы, быть может, будет не лишнею и эта книга, в которой, во всяком случае, будут звучать для детей одни простые и сердечные ноты. В ней нет никакой тенденции, как нет её и в самой жизни. Она не навяжет детям какого-нибудь готового взгляда, не возьмёт на себя претензии изобразить мир лучше, чем он есть, утайкой одного, подменой другого… Но она, быть может, поднимет в сердце ребёнка ту радугу детской поэзии и любви, без которых так жестка и себялюбива бывает жизнь…
Автор был бы вполне награждён, если бы и зрелому читателю, подавленному суровыми «злобами дня», книга эта могла сколько-нибудь живо напомнить те невозвратные мгновенья детского счастья, «когда ещё нам были новы все впечатленья бытия», — беспечальные радости той жизни, про которую Гёте сказал устами умирающего Вертера: «Прекрасная жизнь! Сладкая привычка бытия и порывов!»
Евгений Марков
Село Александровка
20-го февраля 1875 года
Часть первая
Schönes Leben! Süsse Gewohnheit des Daseins und Treibens…
GoetheНаш Илья Муромец
История застаёт меня курносым и черномазым мальчуганом с взъерошенными волосами, в холстинковой рубашке без пояса, в башмачонках с опустившимися до полу чулками. Лоб у меня был крутой и круглый, как согнутое колено, глазёнки калмыцкие, но чёрные и угольки, волосы вились и путались. Ходил я, посматривая исподлобья и выпятив живот, словно беременная баба; ногами шмыгал, а руками цеплялся за всё, мимо чего проходил. Звали меня, собственно, Гриша, но этого христианского названия ни я, ни вы, читатель, ни разу не могли услыхать за бесчисленным множеством кличек и сокращений, ключ к которым известен был только Богу, да мне.
Знал я тогда, что живу в Лазовке, что папенька — барин, а мы — барчуки, маменька —барыня, а сёстры — барышни; что у нас есть лакеи, девки, дворня и мужики. Цену нашей Лазовки я полагал за мильон; в это заблужденье ввёл меня один раз всеобщий наш спор между собою, при участии обеих нянек, Афанасьевны и Натальи. Ильюша говорил, что тысяча, Афанасьевна — что сто тысяч, а Боря отстаивал, что мильон. Он был старший, и ему поверили.
Я верил, что нет вещи выше нашего дома, кроме трёх итальянских тополей, стоявших перед балконом в саду. Эти тополя носили у нас человеческие названия: жиденький и пониже назывался отец Симеон, толстый и высокий — дьякон, а третий, слегка растрёпанный, почитался за дьячка. В наших глазах очертания их имели разительное сходство с фигурами деревенского причта.
Папеньку я считал страшнее и могущественнее всех людей, и признавал за ним безусловное право всем приказывать и всех наказывать. Даже при мечтаниях об опасности войны меня долго успокаивала мысль, что французы меня не смеют убить, потому что я папеньке скажу.
Идеалом физической силы и бесстрашия я признавал брата Петра, который очень часто выворачивал мне руку и давал тумака между лопаток. Про Петрушу мы знали несколько древних саг, прославлявших его храбрость: он схватил за горло огромную лохматую овчарку, сорвавшуюся с цепи; он вышиб кулаком дверь чулана, в который его заперли в наказание, и много других. Про Петрушу мы очень любили расспрашивать няньку Наталью, сравнивая его с различными другими пугавшими нас существами. Так, мы спрашивали её: «Кто сильнее — тридцать разбойников или Петруша?» Или: «Кто, няня, победит: два медведя, пять львов и кит, или Петруша?»
Иногда же, в припадке пытливости, приходилось сочетать вместе вещи совершенно уже неподходящие, например: «Кто кого одолеет — три волка, семь разбойников и привидение, или Петруша?»
Поэтому, когда Петрушу папенька сёк в кабинете, нам это казалось чем-то несбыточным, противоестественным, и мы напряжённо ожидали какого-нибудь происшествия, какой-то опасности для папеньки и торжества Петрушиной силы. Петруша уверял нас, что у него всё железное, что ему не больно от розог; мы ему почти верили, потому что он никогда не кричал под розгами, а только как-то глухо рычал. Его секли довольно часто, а за молчанье ещё поворачивали розги другим концом, то есть корнями, что несравненно больнее, как мне известно по опыту.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: