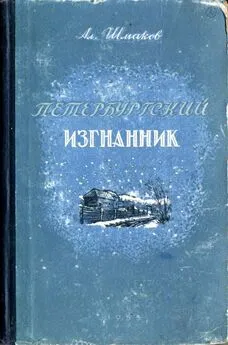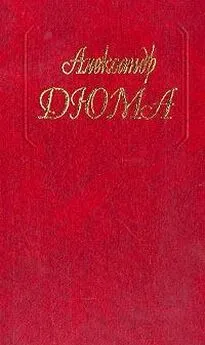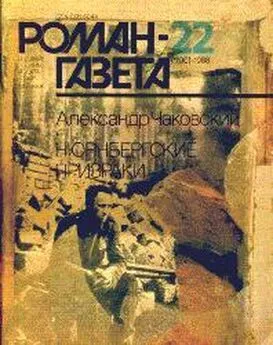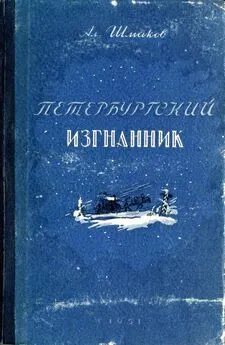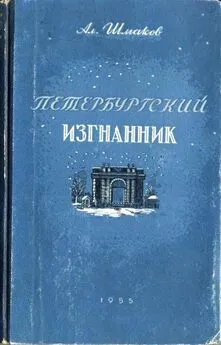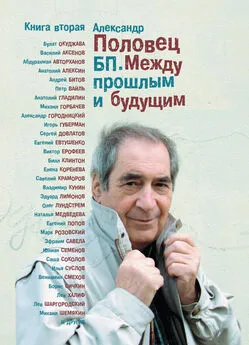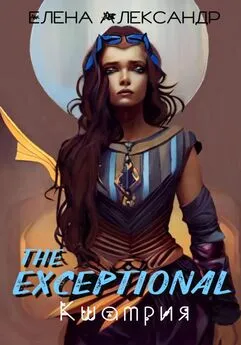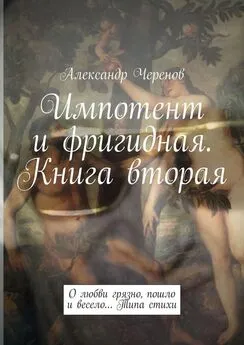Александр Шмаков - Петербургский изгнанник. Книга вторая
- Название:Петербургский изгнанник. Книга вторая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новосибирское книжное издательство
- Год:1953
- Город:Новосибирск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Шмаков - Петербургский изгнанник. Книга вторая краткое содержание
Петербургский изгнанник. Книга вторая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Радищев попросил Степана изготовить прочные лубки и, когда они были сделаны, стал с помощью слуги восстанавливать переломленную кость. Что-то долго похрустывало под его пальцами, и Александр Николаевич на ощупь чувствовал, переломленная кость не сразу ложится на своё прежнее место. Опухоль руки мешала ему тонко прощупать перелом и точно сложить кость.
Урончин не шевелился. Он лишь сквозь стиснутые зубы и искусанные до крови губы глухо стонал. Лицо его, сделавшееся кирпичного цвета от натуги, покрывалось потом, и Батурка, заглядывая в глаза Урончина, выражающие страдание, тихо приговаривал:
— Молчи, друга…
Крайнее напряжение захватило и Радищева, пока он искал точного положения, в котором кость была до перелома. Он с облегчением вздохнул как только кость в месте перелома правильно соединилась. Тогда на руку Урончина наложили крепкие лубки, туго перевязав их бинтом.
Когда всё было закончено и левая рука для надёжности закреплена ещё повязкой через шею, Костя Урончин, мужчина среднего роста лет сорока пяти, поднялся на лежанке и, еле слышно, сквозь зубы сказал:
— Пить.
Степан принёс ковш студёной воды, и Урончин, не переводя дыхания, осушил его. Батурка, всё это время пристально наблюдавший за товарищем и Радищевым, обеспокоенно спросил:
— Костя сможет на «дедуску» ходить?
Александр Николаевич, догадываясь, кого подразумевал под «дедуской» Батурка и считая его беспокойство вполне естественным, ответил:
— Весной сможет на медведя охотиться…
Чёрные глаза Батурки радостно сверкнули.
— Спасибо, друга. Апеть хоросо…
— Курить, — попросил Урончин, и Батурка живо набил свою трубку табаком, высек огонь кресалом, потянул из неё разок, с каким-то особенным удовольствием глотнул дым и передал трубку товарищу. Тот быстро-быстро засосал её с жадностью изголодавшегося человека.
Радищев спросил, как Урончина помял медведь, и Батурка охотно стал рассказывать, часто заменяя слова живой и выразительной жестикуляцией и мимикой. Александр Николаевич и Степан поняли это так. Тунгус Костя Урончин — лучший охотник из стойбища всегда добывал «дедуску» зимой, когда медведь сонный лежал под снежным намётом в своей берлоге. Его умел хорошо отыскивать под снегом изощрённый и испытанный глаз Урончина, ещё с лета запомнившего «старый берлог».
И вот нынче Костя Урончин тоже пошёл на «дедуску» с ним, с Батуркой. Охотник отрыл берлогу из-под снега и, как в молодости, привязав к поясу верёвку, конец которой отдал Батурке, сам полез в берлогу, чтобы ножом прирезать спящего медведя, как поросёнка. Но, должно быть, Костя промахнулся ножом, угодил мимо сердца, и разъярённый зверь помял в своих лапах Урончина, переломил ему руку.
— Убил медведя-то? — поинтересовался Степан.
— Добыл «дедуску», — ответил Батурка.
Незатейливый, но правдивый, рассказ Батурки о Косте Урончине оставил сильное впечатление у Радищева, восхищённого поступком тунгуса. Он представил его влезающим в медвежью берлогу, и Александру Николаевичу невольно стало страшно до мурашек, пробежавших по спине.
«Какую крепость духа надо иметь человеку, чтобы устроить поединок с медведем в берлоге», — подумал он и отметил, что Костя Урончин обладал незаурядной смелостью, силой и крепостью духа. «Таков человек из народа, которого оскорбительно всё ещё называют диким».
Ему припомнился разговор с доктором Карлом Мерком о диком образе жизни народностей Чукотки и восторженный отзыв о их самобытности художника Луки Воронина. Радищев подумал, что тунгус Костя Урончин самобытно красив, силен и даже величествен теперь и что он будет ещё краше, сильнее и величественнее, когда сбросит с себя навсегда позорную кличку «дикого» и станет равным в семье свободных народов России.
— Спасибо, друга, — с теплотой сказал Батурка, принимая от Кости Урончина выкуренную трубку, и пригласил Радищева:
— Приходи к нам в чум…
— Ты приезжай в Илимск.
— Хоросо.
Тунгусы стали собираться в дорогу. Александр Николаевич, провожая их, долго напутствовал, как должен вести себя Костя Урончин до тех пор, пока у него не срастётся кость и не будут сняты с руки лубки и повязка. Оба охотника понимающе кивали головами.
Радищев, проводив тунгусов, долго стоял на крыльце и смотрел вслед упряжке, пока она не скрылась в таёжке за поворотом дороги. Он думал о том, что история возложила на русских почётную и благородную миссию — поднять культуру отсталых народностей отечества и сделать их равными, как родных братьев.
«…Хотя, в сущности я только эмпирик, но моя добрая воля, кажется, может отчасти возместить недостаток знаний, а ваши благодеяния дали мне возможность удовлетворить сие желание. Ящик с лекарством, почти не тронутый, теперь часто идёт в дело», — писал Александр Николаевич графу Воронцову.
Молва об его умении врачевать быстро облетела илимскую округу. К Радищеву потянулись люди отовсюду, то с одним недугом, то с другим, то с третьим. Он не отказывал никому и стремился всем оказать посильную помощь: дать лекарство, внимательно выслушать больного о недуге. Он невольно занялся врачеванием. Приобретённые ещё в годы учёбы медицинские знания он только теперь, углубляя их, смог претворить на практике и заняться полезным делом, приносящим ему огромное внутреннее удовлетворение.
Александр Николаевич решил всерьёз приобщить к этому делу и Степана, быстро перенимающего нужные знания и навык. Теперь Елизавета Васильевна часто заставала Радищева со Степаном подолгу беседующими о врачевании, о простейших способах лечения и изготовлении из трав необходимых лекарств.
— Врачевание, Степанушка, состоит не в лечении болезни, не в лечении причин её, а в лечении самого больного, — поучал при таких беседах Александр Николаевич.
— Я не помешаю, Александр? — спрашивала Рубановская.
— Садись ближе, Лизанька.
Елизавета Васильевна садилась в кресло и слушала.
— Иной раз задумаешься, — тепло и сердечно продолжал Радищев. — По теориям да книгам все болезни исцеляются, а сколько вокруг нас умирает хороших людей, и жалко станет их. Книжное лечение легко, а на практике — трудно. Иное — наука, иное — умение лечить. И тут, Степан, познание болезни — половина лечения. А чтобы узнать болезнь, допроси сначала больного: когда болезнь его посетила первый раз, вдруг ли напала, или исподтишка брала его, где выказала своё насилие…
Степан слушал Радищева, не проронив ни слова.
— Допроси, — продолжал Радищев, — в крови ли, в чувствительных жилах, в орудиях ли пищеварения или в оболочках, одевающих тело снаружи, почувствовался больному недуг. Всё, всё расспроси умело, без спешности, а потом решай. Успех врачевания в полном дознании ложа болезни, которое она определила для себя в человеке. Вот так и действуй всегда…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: