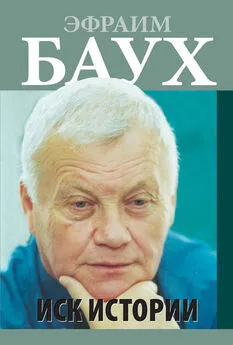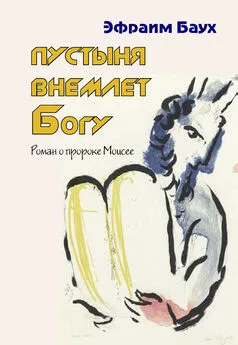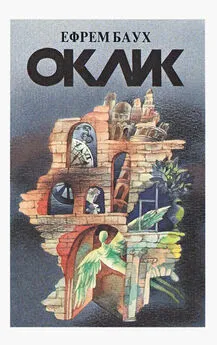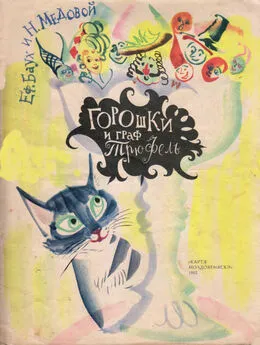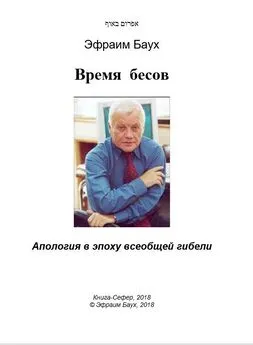Эфраим Баух - Ницше и нимфы
- Название:Ницше и нимфы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга-Сефер
- Год:2014
- Город:Тель-Авив
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эфраим Баух - Ницше и нимфы краткое содержание
Новый роман крупнейшего современного писателя, живущего в Израиле, Эфраима Бауха, посвящен Фридриху Ницше.
Писатель связан с темой Ницше еще с времен кишиневской юности, когда он нашел среди бумаг погибшего на фронте отца потрепанные издания запрещенного советской властью философа.
Роман написан от первого лица, что отличает его от общего потока «ницшеаны».
Ницше вспоминает собственную жизнь, пребывая в Йенском сумасшедшем доме.
Особое место занимает отношение Ницше к Ветхому Завету, взятому Христианством из Священного писания евреев. Странная смесь любви к Христу и отторжения от него, которого он называет лишь «еврейским раввином» или «Распятым». И, именно, отсюда проистекают его сложные взаимоотношения с женщинами, которым посвящена значительная часть романа, но, главным образом, единственной любви Ницше к дочери русского генерала Густава фон Саломе, которую он пронес через всю жизнь, до последнего своего дня…
Роман выходит в год 130-летия со дня смерти философа.
Ницше и нимфы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Искусство необходимо, чтобы спастись от невыносимости истины.
Подростком я воистину жил в атмосфере Ветхого Завета. Книги Священного Писания были моими книгами в детстве. Ими я зачитывался и фантазировал до того, как мог обратиться к другим книгам. Конечно, я обязан был их читать, но не помню ни одного случая, чтобы они мне надоели или вызывали скуку. Привязанность моя к этим Книгам и религиозным праздникам снискала мне прозвище «маленький священник» среди детей нашего квартала. Ведь отец мой был священником, перед ним преклонялись все домашние, и я полагал, что это преклонение распространяется на всех окружающих и, естественно, на меня.
Прошло немало времени, пока я однажды, как всегда у меня, внезапно, понял, что «маленьким священником» называли меня в насмешку.
По сей день я могу цитировать наизусть целые главы из Священного Писания.
По сей день я не могу выйти из тени Древа познания добра и зла, соседствующего в раю с Древом жизни, о чем сказано в девятом стихе второй главы Книги Бытия, преследующем меня с момента написания этой книги «По ту сторону добра и зла».
В те годы моим наваждением был стих четвертый главы шестой Бытия: «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим и они стали рожать им. Это сильные, издревле славные люди».
Быть может, тогда впервые шевельнулась во мне мысль о «Сверхчеловеке».
Немецкий климат мне, кому на роду написано решать великие задачи еще глубоко и, можно даже сказать, безнадежно закупоренного человеческого духа, — противопоказан.
Вялую посредственность, рождаемую немецким климатом, вкупе с непомерным высокомерием прусского духа, я особенно резко ощущаю, сменив его на чистый лучистый холод альпийских высот и райское блаженство средиземноморского побережья.
Несмотря на огромное водное пространство и высоко поднятое горами небо, сухость воздуха способствует раскрытию гениальности кисти, языка, мысли и чувств — Данте и Макиавелли во Флоренции, Стендаля в Париже, пророков Ветхого Завета в Иерусалиме, греческих мыслителей в Афинах.
Они прожили достаточно долгие жизни в достаточно добром здравии тела и духа.
Великие же для меня немцы — Гейне умер довольно молодым, прикованным к постели, Гельдерлин временами впадал в безумие.
Один, пожалуй, олимпиец Гете может быть причислен по мощи ума и долгожительству к патриархам духа. Именно, он был для меня примером художника и мыслителя, избежавшего пороков немецкой философии.
Часто встречающееся в ней неряшество мысли, неумение и невозможность вырваться из книжности к жизни, балансирование — между не очень — скажем так — тонким остроумием и серьезностью, быстро скатывающейся к скуке, подстерегало меня на первых этапах моего сочинительства.
Думаю, в третьей части «Заратустры» я сумел одолеть все эти подводные камни, доведя стихию немецкого языка до совершенства.
На фоне этого текста, который будет оценен в ближайших поколениях, обнаружатся все огрехи работавших до меня немецких философов, их дилетантизм, неудачные попытки прорваться к хорошему стилю, порой занудство, жертва истиной ради красивой фразы.
Позволю себе усомниться, что кто-либо из философов до меня достиг подобной мне глубины мысли и совершенства выражения.
Ведь на протяжении столетий, со своей невыносимой для меня почтительностью ко двору кайзеров, немцы стремились писать канцелярским языком, столь же характерным и для русского двора, многое по-родственному принимающего от немецкого.
Они принимали канцелярское придворное и правительственное письмо за образец. Он постепенно стал принятым литературным стилем.
И хотя немецкое дворянство пыталось усердно подражать романским языкам — французскому, итальянскому, испанскому, не довольствуясь родным языком. Для Монтеня же и даже для Расина немецкий должен был звучать невыносимо пошло. Особенно — весьма распространенный язык прусских офицеров. Стоит кому-нибудь из них открыть рот и начинать двигаться, как он оказывается самой нахальной, и самой противной фигурой в Европе. Меня просто выворачивают и доводят до судорог их командные выкрики, которые прямо-таки оглушают ревом немецкие города, где у всех ворот занимаются строевой подготовкой: какая чванливость, какое бешеное чувство авторитета.
О, боги, слыша этот рёв начинаешь сомневаться в том, что немцы и в самом деле музыкальный народ. Несомненно, они нынче милитаризуются в звучании своего языка: по всей вероятности, выучившись говорить по-военному, они примутся наконец и писать по-военному. Может быть, и теперь уже пишут офицерским сленгом: я слишком мало читаю из того, что пишут теперь в Германии.
Но одно знаю я наверняка: официальные немецкие сообщения, проникающие и за границу, инспирированы не немецкой музыкой, но как раз этим новым звучанием безвкусного высокомерия. Почти в каждой речи любого немецкого сановника, когда он вещает в свой оглушительный кайзеровский рупор, слышится акцент, от которого с отвращением, вздрагивая в страхе, уклоняется ухо иностранца.
Немецкие запахи, немецкие физиономии, раздутые пивом, немецкие места — Наумбург, Пфорташуле, Лейпциг, — приносили и приносят мне только вред, вгоняют в бред, который одолевает меня на более длительные периоды.
Германская смесь сентиментальности и жестокости мне смертельно противопоказана.
Начиная эту книгу «По ту сторону добра и зла», я ощущал, как физические страдания вырываются в точные, не медицинские, а философские диагнозы.
Я знал, куда меня несет, я пытался тормозить мой неудержимый бег по ту сторону. Но, обессилев, пустил себя по воле волн. Какая уж тут воля к власти?
Открытия моего гения следовали потоком, истощая мой мозг. Я пытался устоять в этом обрушивающемся на меня неведомо откуда — то ли с неба, то ли из преисподней — потоке. Мне уже было все равно, унесет ли меня в безумие. Это было свыше моих сил. Я уже был готов, что меня поглотит бездна и занесет илом. Опять ко мне прикоснулось счастье: исчезнуть из мира и, таким образом, достичь бессмертия.
Неужели безумие можно принять за счастье?
Даже в этом я единственный и неповторимый среди мировых философов, ну, быть может, после Эмпедокла. Ища спасения в момент, когда ослепительная прямота истины пронизывала меня до костей, я в испуге приседал на корточки и уползал в тень. Я ощущал даже не полное одиночество, а абсолютную безопорность.
Волосы шевелились гибельностью последнего провала в бездну. Наступала беспросветная тьма. Являлась ли она концом или, все же, лишь предтечей смерти? Или это и есть безумие?
Успокаивало море, сливающееся с небом. Каждый раз, возникая перед моим взором, куда бы я не обращал свои стопы, оно преследовало меня спасительной альтернативой — Бесконечностью, которая тщится заменить Бога.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: