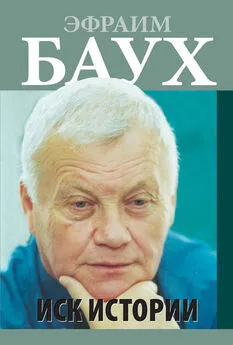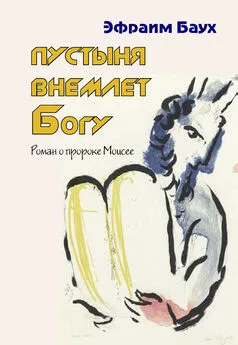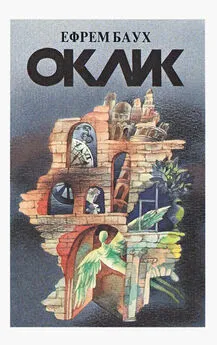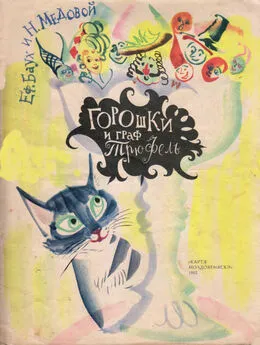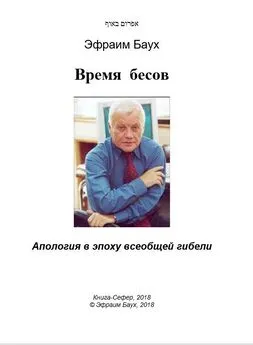Эфраим Баух - Ницше и нимфы
- Название:Ницше и нимфы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга-Сефер
- Год:2014
- Город:Тель-Авив
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эфраим Баух - Ницше и нимфы краткое содержание
Новый роман крупнейшего современного писателя, живущего в Израиле, Эфраима Бауха, посвящен Фридриху Ницше.
Писатель связан с темой Ницше еще с времен кишиневской юности, когда он нашел среди бумаг погибшего на фронте отца потрепанные издания запрещенного советской властью философа.
Роман написан от первого лица, что отличает его от общего потока «ницшеаны».
Ницше вспоминает собственную жизнь, пребывая в Йенском сумасшедшем доме.
Особое место занимает отношение Ницше к Ветхому Завету, взятому Христианством из Священного писания евреев. Странная смесь любви к Христу и отторжения от него, которого он называет лишь «еврейским раввином» или «Распятым». И, именно, отсюда проистекают его сложные взаимоотношения с женщинами, которым посвящена значительная часть романа, но, главным образом, единственной любви Ницше к дочери русского генерала Густава фон Саломе, которую он пронес через всю жизнь, до последнего своего дня…
Роман выходит в год 130-летия со дня смерти философа.
Ницше и нимфы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Еврей знает, как высмеять борца за культуру, который не может снова набраться сил для борьбы, ибо он потерял веру в собственные принципы. Но смерть прекращает любые насмешки. Смех должен замереть по эту сторону могилы.
Распятие не дает мне покоя. Все мысли мои крутятся вокруг фигуры Христа: не могу от него оторваться и, проклиная его, тянусь к нему, чувствуя, как истаивают во мне последние силы. Мое христианство и анти христианство — оба родились из духа злопамятства. Но христиане полны злопамятства, враждебного жизни. Во мне же злопамятство это — вражда к смерти, к мягким поцелуям Распятого. Потому моя мысль последовательно движется по золотой середине, без которой, по исповеди Паскаля, мы покидаем свою человечность и падаем в яму Паскаля — яму отвращения к самому себе.
Я вернулся в отчий дом, на улице Вайнгартен, номер восемнадцать, града Наумбурга, стены которого покинул четырнадцатилетним подростком. Когда я был малышом, дом казался мне огромным, просторным. По мере того, как я рос, стены вокруг меня сжимались, дом скукоживался.
Сейчас мне в нем стало совсем тесно, но я научился экономно дышать, более того, подсказывать Маме, набожной лютеранке, стихи из Библии, вызывая в ней искреннее удивление. Она никак не могла совместить это в своем сознании с написанным мною «Антихристом» и, кажется, вообще лелеяла мысль сжечь все мной написанное, которое она считала богохульным.
Но я знал, что этого ей не даст сделать моя сестрица. Я-то считал каждый пфенниг, она же, абсолютная невежда в философии, весьма оборотиста и, несмотря на все ее провалы финансовых дел в Парагвае, уверена, что на моих сочинениях заработает кучу денег. Хищность этой Медузы Горгоны не знает пределов. Да мне и не жалко: деньги никогда не превалировали в моей жизни. Но главное и самое страшное то, что она, ради наживы, извратит, исказит всё, что в моем учении великого и незаурядного, превратив меня в монстра.
При всей ее недалекости, пальчики у нее цепкие и вкрадчивые, уж я-то знаю это с детских лет. Она меня умертвит, как лягушку, выставив «безумным философом» для публичных зрелищ.
Я невольно подслушал, как она с важностью интеллектуала отговаривала Маму от намерения сжечь мои некоторые сочинения, мол, творения гения принадлежат к сокровищам всего мира, а не только семьи.
А пока я пребываю в блаженном ощущении незнания времени, призрачно и примитивно прозревая то, что должно свершиться в грядущем.
А ведь я совершил гениальный творческий прорыв, стоя абсолютно нагим, и потому непонятым, часто невидимым, еще чаще — ненавидимым, посреди моего века сплошной бездарности — во всех своих средствах и проявлениях. Раньше, внутренне ощущая надвигающееся безумие, я терял сознание и пребывал в бессознательном блаженстве, в стерильной чистоте сумрачного леса у сумрачных вод — в первобытной легкости души и освобожденного от всякой мысли разума. Это было воистину неземное блаженство.
Я приходил в себя, разбитый, распростертый и растертый в прах, со страшной головной болью, позывами к рвоте, невозможностью издать хотя бы звук. И мне необходимо было время, чтобы накопить силы у плотины, перекрывающей застоявшийся вал мыслей, среди которых рассыпались вспышками в висках искры гения.
И я с болью и рвотой прорывал эту плотину.
Теперь же я сравнительно спокойно — времени у меня достаточно — перехожу грань от разума к безумию, сохраняя ясность мысли, без всяких болезненных ощущений. И врачи, удивленно переглядываясь, озадаченно качают кочанами своих рано лысеющих голов.
Я здоров в полном смысле этого слова, только мой гений обрел новые пространства, которые я лишь осваиваю и обретаюсь в них с комфортом.
Эти, никем еще до меня не исследованные, области ограждены, подобно высокому, хотя и прозрачному, призрачному забору — обетом молчания.
Была речь — картечь, затем перешла в течь и совсем иссякла.
За этим забором, как во сне, тянется, насколько хватает глаз, пустыня, заполненная массой немигающих человеческих глаз, тупо вглядывающихся в меня, в собственное бессмысленное будущее, и непонятно, кто из нас нормален, а кто безумен.
Преступление мое в том, что я своей философией тщился разбудить в них ум, побудить к добрым чувствам. Но тупость и корысть разбудили в них вирусы ненависти и жажду убийства себе подобного.
И ныне я озираю эту массу холодным взглядом кающегося убийцы.
И обет молчания открывает мне с ножевой ясностью надвигающееся катастрофой новое столетие. Потеряв чувство времени, я лишь догадываюсь по бессмысленному рёву толп и фейерверкам, что приближается конец моего века — Fin de Siecle.
Меня объемлет мир иной — мир безмолвия. Он тих. Для него чужды все еще различаемые с трудом, сквозь слепоту, лица и вещи, окружающие меня.
Улицы Наумбурга пустынны — вещь обычная в прорехах Истории, на пустырях Времени.
А книги мои — живая хватка аналогий.
Но самое страшное, что в последнее время мне не хватает воздуха дышать. Я знаю, это моя Судьба шлет мне последний ультиматум.
Ночью приснилась мне веселая птичка-вертихвостка, часто посещавшая меня в окне палаты. Теперь она обернулась птицей Судьбы из темных лежбищ смерти. И что мне с того, что в любой точке Земли миф опережает реальность.
Эпистолярное русло души
Обет молчания это — долгое прощание.
Само же прощание это, по сути, прощение.
Есть такое вовсе неизученное понятие — молчун.
Молчун — это целая философия со своей психологией, религией, духом.
Молчун отменяет законы разума — становится Ангелом безумия, таящим в себе огромный мир — темный, подвальный. Зажгите слабую лучину, и вы увидите в этой мгле столько потайного величия, что этот шумный ослепляющий мир покажется с пятачок, подобно байкам Нового Завета, упорно цепляющимся за великие руины Ветхого Завета.
Молчун требует медленно — времени у меня вдосталь — обозревать всю мою прошедшую жизнь в качестве режиссера и зрителя вольно или невольно выстроенного мной спектакля.
Всё, что составляет мою жизнь, заложено в меня с рождения, но особенно резко и угрожающе обозначилось в судьбоносном — если оглянуться назад — тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году. Эти три замкнутые в себе восьмерки несли меня по своим кругам, как загнанную лошадь, впряженную в упряжь безысходности.
Я еще не могу разобраться в том, блаженное ли это чувство — в сумеречном покое обета молчания вспоминать то, что выходило из-под моего пера в письме Францу Овербеку в тот прекрасный апрельский день, четырнадцатого числа восемьдесят седьмого, в благословенном Лаго Маджоре, явно не совпадавший с бурей в моей душе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: