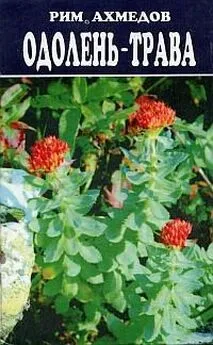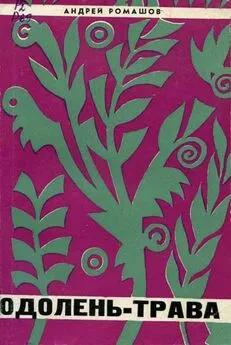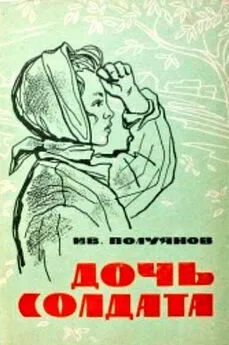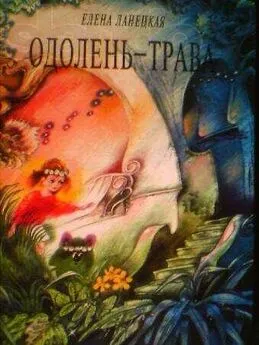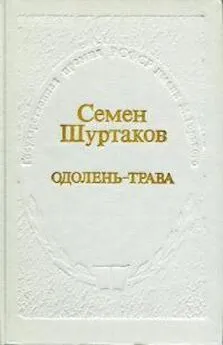Иван Полуянов - Одолень-трава
- Название:Одолень-трава
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Детская литература
- Год:1979
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Полуянов - Одолень-трава краткое содержание
Гражданская война на севере нашей Родины, беспощадная схватка двух миров, подвиг народных масс — вот содержание книги вологодского писателя Ивана Полуянова.
Повествование строится в своеобразном ключе: чередующиеся главы пишутся от имени крестьянки Федосьи и ее мужа Федора Достоваловых. Они, сейчас уже немолодые, честно доживающие свою жизнь, вспоминают неспокойную, тревожную молодость.
Книга воспитывает в молодом поколении гордость за дело, свершенное старшим поколением наших современников, патриотизм и ответственность за свою страну.
Одолень-трава - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пластались рваные тучи, сырой снежок пахнул светло и лучисто, медный колокол часовни бил с оттяжкой, натужно, и летало, кричало воронье. На ветру хлопали, скрипя ржавыми петлями, двери пустых изб, будто ходил кто-то по посаду, искал и не мог найти то, что искал в светлом сиянии снега, в безлюдье улиц…
Наметила я себе дом позажиточней: в самом деле, не по халупам же хлеб менять на барахлишко из моей котомки? Переступила порог избы — и отшатнулась. Печь топится, а чад из устья клубами плывет в избу.
На полатях кашляла старуха.
— Кого бог принес? — едва я разобрала шепоток, прерываемый кашлем.
— Меняю, баушка, на хлеб. Ниток-иголок не надо ли?
Старуха слезла с полатей. На руках и ногах, словно браслеты, кольцами веревка из конского волоса. Голова обмотана смоляной паклей. Лицо черно от дегтя.
— Бают, облегченье от хвори, коли избу-то дымом прокоптить. Смола, деготь, конский волос того полезней. Вымерли наши-то, вымерли в одночасье! Крестом и молитвой да куделькой со смолой спасаюсь. Вдвоем с Никитушкой осталися. А ниток как не надо? Иглы-то не ржавые?
— Хорошие, баушка. Нитки заводские, десятый номер.
Я присела на корточки: у пола немножко полегче дышится. Развязала котомку.
— Баушка, деревня ваша какая?
— Погост. Озерными прозывается.
— Правда? — обрадовалась я. Вышло довольно естественно. — Здесь моя тетя живет.
Старуха взяла иголки на ладонь. Измазанная дегтем, в волосяных путах, она была точь-в-точь как лешачиха.
— Тетя? Кто такая будет-то?
Заслонялась бабка плечом. Жадна старуха и на руку нечиста: спроворила-таки пару иголок воткнуть в кофту, чая, что я не замечу.
— Ч-чо? Чо, девонька, баешь?
— Говорю: Тамара Митрофановна, фельдшерица.
— Лекарша?!
Иголки посыпались на пол.
— Никита, — завопила старуха ни с того ни с сего. — Никита!
Растворилась горница. Несмотря на густой желтый дым, застивший свет, увидела, что в горнице люди. При оружии. На столе бутыль, поди, с самогоном.
— Лекарша заразу напускала, смутьянка большевицка, — надрывалась старуха. — Заарестовали, так на ее место племянница заявилася. Никита… хватай ее, сатану!
Я подняла котомку.
— Стой! — окрик в спину из горницы. — Куда?
Глава XXII
После свистка
День был воскресный. Во дворе спозаранок орудовали метлами дневальные из арестантов. Вот кому везет: окурок запросто можно стрельнуть, на помойке выудить чего съестного. Не привередничай, будешь сыт и нос в табаке.
Пыль подняли подметальщики. Надзиратель отошел, готово: из помойки торчат ноги в обмотках. Счастливчик, поди, гребет в карманы картофельную шелуху, может, селедочных голов откопал. Самый смак селедочная-то головка: соси да косточками поплевывай.
Э, Арсенька Уланов! Лопни мои глаза, если обознался!
Пофартило дезертиру чертову, вылез из помойки, карманы оттопырены.
Как жизнь, Арсеня? Помахал белой-то бумажкой с генеральскими посулами и по помойкам лазишь?
Сотни народу всякого в «финлянке», пленных тоже хватает.
Часам к десяти к тюрьме стали подкатывать экипажи, автомобили, высаживая важных господ. Промаршировал на плац вооруженный отряд, человек сорок. Кокарды, погоны, петлицы разноцветные. Сводный отряд, от всех каманских войск.
Парад, что ли?
Вскоре по коридорам раскатились дребезжащие трели свистков.
Старосты камер подхватили сигнал надзирателей:
— С нар долой!
Плевал я на свистки. С места не тронусь.
— Полундра, — командовал Дымба. — Кормой к окнам повернись!
Матрос мне мигнул: будь, салага, начеку.
Я что? Буду. С верхних нар через окно плац хорошо обозревается.

Когда надзиратели под револьвером вывели на плац заключенного в белой нательной рубахе, я смекнул: «Э, Федька, не парадом пахнет».
Дымба одним прыжком взлетел на нары:
— Что там?
— Не понимаю, Ося.
Матрос посмотрел в окно.
— Это Ларионов. На Пинеге его взяли. Бывший прапорщик, большевик.
Кроме Ларионова — он выделялся среди товарищей белой нательной рубахой, синими галифе, — перед солдатской шеренгой у стены поставили красноармейцев. Полураздетых, со следами побоев.
Ларионов был бос, поеживался и задирал офицеров:
— Одолжите папиросу, опричники.
Узнав о приготовлениях на тюремном плацу, у ворот скопилась праздная толпа. «Всех их к стенке! — надрывалась барышня с цветным зонтиком. — Бить… вешать беспощадно!»
Бородатый белогвардеец предложил повязки на глаза. Ларионов напрягся, цедя сквозь зубы:
— Если стыдно, себе закрой глаза!
Шеренга солдат в разномастных шинелях колыхнулась: одни после команды «на руку!» вскинули винтовки, часть же — это были итальянцы — демонстративно воткнула штыки в землю.
Залп ударил — я не сморгнул. Бывало, стукну по гвоздю молотком и то сморгну. А сейчас не сморгнул.
Чего уж, учись, Федька: всего раз живется на свете, зато и помирать единожды.
На груди, на белой рубахе Ларионова, упавшего вместе со всеми, расползлось кровавое пятно. Но он был жив. Раненый хотел подняться:
— Палачи! Умираем стоя.
Прошла долгая минута, пока один из офицеров, лощеный щеголь, поиграл на ладони револьвером и будто из одолжения прицелился Ларионову в лицо…
Трупы не убирались несколько дней. Изгрызенная пулями штукатурка еще дольше хранила пятна крови.
Весной после дождей двинется в березах сладкий сок, мать-и-мачеха зажжет желтые фонарики на обочинах дорог, поплывут над кровлями изб грудастые облака — тогда в лесах тронется снег. Завытаивает на нем то, что зимой накопилось и было скрыто наслоениями метелей: следы зверей и птиц, сор древесный, хлам, обитая ветром хвоя. Уходит лес в воспоминания о прожитом, когда тронутся таять снега в густой чаще.
Так и я, лежа после отбоя на нарах, перебирал все, что со мной было. И видел я себя опять на палубе буксира: кресло возле рубки, сушится детское бельишко у трубы…
Никого не щадил ты, Павлин Федорович, железо не выдерживало, палубы кровью умывались. Говорят, чужая душа потемки. Вранье! Откуда и быть свету, как не из такой души? Ты рвался в Архангельск, товарищ Павлин, эти решетки рвался разнести: сам из каторжан, лучше кого иного ты знал, что гнетет и ломает человека неволя.
Я слабак. Повинуюсь, чего уж… чего! Пустили бы, в помойку полез искать объедки, во я какой.
Стыдно и горько мне. Поддаюсь я, вот что это такое. Слаб я на излом.
Тут поддашься. Еще как! Днем приводят за высокие белые стены, по ночам уводят. Подкатит грузовик, приговоренных с закрученными назад руками конвоиры бросят в кузов и сядут на распростертые тела. Протрещит мотор, заглушая стоны и проклятья смертников, ворота «финлянки» захлопываются. До утра. А с рассвета до темна поступают новые этапы, очередное пополнение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: