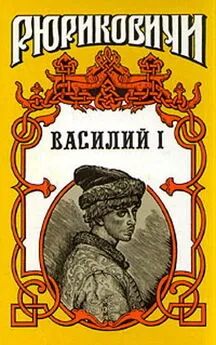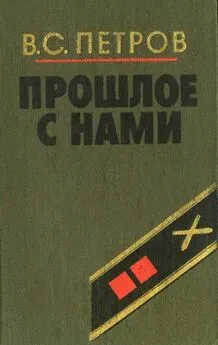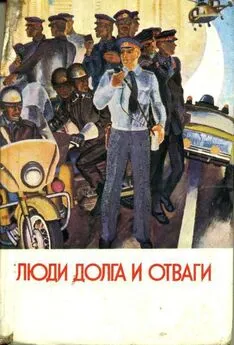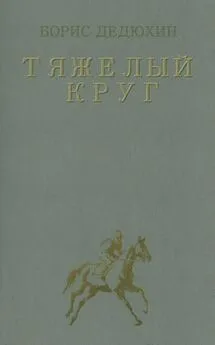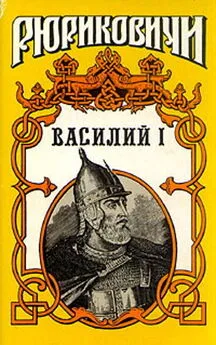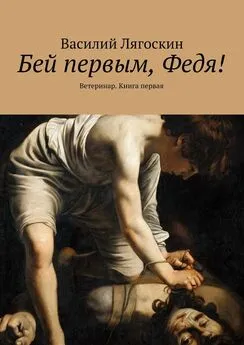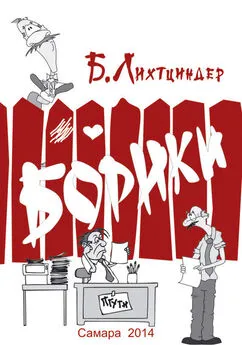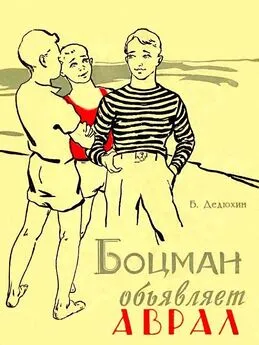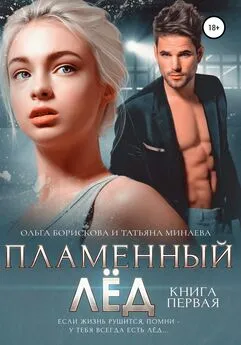Борис Дедюхин - Василий I. Книга первая
- Название:Василий I. Книга первая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АРМАДА
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-87994-052-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Дедюхин - Василий I. Книга первая краткое содержание
Действие увлекательного исторического романа «Василий, сын Дмитрия» охватывает период до и после Куликовской битвы, когда росло и крепло национальное самосознание русского народа. Все сюжетные линии романа и судьбы его персонажей сопряжены с деятельностью конкретных исторических лиц: князя Василия I, Сергия Радонежского, Андрея Рублева.
Василий I. Книга первая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тут же припоминалось, что ведь и презренный боярин Трава хоть и не из лепших, но знаемых тоже людей. Взгляд невольно обращался к кремлевским стенам и башням: Иван Собака, отец Травы, большое радение приложил, чтобы стояли нерушимо сложенные им из белого камня укрепления города. Своим существованием белокаменный Кремль подтверждал прошедшее, и стоять ему многие годы еще, вечно стоять. Так же нетленна и память о тех, кто возводил его, о людях не только знаемых, но и мизинных тоже. Голоса, говор пращуров, дыхание самой истории запечатлелись в названиях кремлевских ворот и башен: Чешковы ворота, Свиблова стрельница, Тимофеевские проездные мостки, Боровицкие, Богородицкие, Константино-Еленинские, Никольские… Сознавая это, испытывал Василий смешанное чувство гордости за своих пращуров и неуверенности в том, что он сумеет быть достойным их памяти.
Намеченную на завтра потеху пришлось отменить, потому что вечером прибыл гонец из Константинополя с дурной вестью: «В день памяти преподобной Феодоры Александрийской преставился Пимин, митрополит Русский, во Цареграде, тамо и положен бысть». В одно время с гонцом пришел в Москву из своей обители Сергий Радонежский по важному делу к великому князю.
Весть о смерти в далеком Константинополе митрополита Пимина дошла до затерянной в лесах Сергиевой обители скорее, нежели до Кремля, и Василий терялся в догадках: как и почему такое могло произойти.
Известно, отличалась обитель с церковью во имя Животворящей Троицы страннолюбием и нищелюбием, со всех концов тянулись туда нищие, странники, калики, и не диво, что многое может быть ведомо Сергию от них, но как они раньше великокняжеского гонца поспели? Да и не затем, чтобы вести доставлять, тянутся к преподобному люди, в убогих кельях его обители не умолкает славословие Господу, и в тишине пустынной смиренные иноки неустанно трудятся над очищением своего сердца от страстей, стараясь вовсе позабыть о том, что там, за пределами их заветной пустыни, есть другой мир, который шумит и волнуется, как море непостоянное, погружая людей в мутные волны житейской суеты. Правда, в нужное время и в обители этой смиренной обнаружились люди, отнюдь не отрешенные от мира: ведомые всем ратники великие и богатыри крепкие, люди зело смысленные к воинскому делу и наряду — не только Александр Пересвет да Иродион Ослябя с сыном Яковом, и другие монахи Сергиевой обители в шлемах нетленных, схимах святых вышли на Куликово поле, чтобы сокрушить врага или сложить за Русь головы. Повелел им взять оружие в руки сам Сергий, и многие, в их числе и старший брат его Стефан, неодобрительно отнеслись к этому. Но людская молва не касалась преподобного, он смело и решительно вмешивался не раз в мирские дела, и сам Дмитрий Донской кротко выслушивал его. И другие великие князья не смели ни в чем перечить великому старцу.
Дважды бывал Василий вместе с отцом в Сергиевой обители, и запомнилось ему, что все-то там худостно, все нищетно, сиротински. Сергий сам неизменно был в посконной, латаной-перелатаной, без карманов, как у всех праведников, рубахе, подпоясанной вервием, согбенный и изнуренный от неустанных трудов и неусыпных бдений. И сейчас в таком облике ждал его увидеть Василий, но ошибся.
В думную палату вошел человек старый, однако с походкой легкой, взглядом быстрым, речью внятной. Поначалу, правда, показался он Василию не просто даже старым, но совершенно древним: на щеках и на лбу его столь большое множество морщин и глубоких складок, что в них словно бы западают и становятся невидимыми близко посаженные и кажущиеся неодинаковыми глаза Сергия. Но когда он улыбнулся великому князю улыбкой друга близкого или даже родственника, прекрасные его глаза васильково засветились, кожа в предглазьях и на щеках разгладилась, сквозь седые редкие усы и бороду проглянули не стариковские совсем, не обесцвеченные губы и ряд крепких белых зубов, все лицо его во внутреннем своем озарении стало детски-доверчивым, чистым, ясным. Но сразу же и построжало оно, как только повернулся Сергий к киоту, где выделялась в золотом с многоценными каменьями окладе икона Богородицы, произнес неторопливо, воздев обе руки к горним силам:
— Пречистая Мать Христа нашего, Ходатайница и Заступница, крепкая Помощница роду человеческому! Будь и нам, недостойным, Ходатайницей, присно молящейся к Сыну Своему и Богу нашему!
Сергий облачен был в священническую ризу, Василия благословил кипарисовым крестом, обернув руку концом холостяной домотканой епитрахили. Были во всем его облике скромность, простота и достоинство. Показалось Василию, что принес с собой Сергий живительный смоляной запах елового бора.
Как и догадывался Василий, важным делам, приведшим великого старца в Кремль, был вопрос о митрополите всея Руси. Первоигумен никого иного не желал видеть в святительском сане, кроме Киприана — того самого византийского пришельца, которого дважды выпроводил из Москвы отец и с которым отношения у Василия складывались не простые и не всегда понятные.
Сказать по правде, Василий давно ждал встречи с Сергием, ждал и боялся ее. Вскоре после того как умер отец, епископы и игумены московских храмов и монастырей ненароком будто бы интересовались: а кого же пожелает великий князь видеть в митрополитах? У всех было в памяти дерзкое решение Дмитрия Ивановича Донского, решившего наперекор не только старцу Сергию, но и самому константинопольскому патриарху Филофею поставить в митрополиты вчерашнего попа, духовника своего и благоприятеля Михаила-Митяя. Почему бы и новому великому князю не выбрать духовного владыку из русских священнослужителей? Но Василий не спешил принимать решение. Сергий знал об этом и, по сообщениям великокняжеских послухов, сильно серчал на молодого русского государя. Как и в Мамаево нашествие, опять в очень важный момент своей истории Русь оказалась без духовного наставника: Киприан в изгоне, а Пимин, дважды низложенный патриаршим собором за скандальные проделки, уехал тягаться (опять с большим запасом денег) в Константинополь за месяц до кончины Дмитрия Донского.
Сергий Радонежский был старцем прозорливым, и душа Василия была для него книгой открытой. Он не выказывал своей досады, очень мягко и без поспешности старался склонить великого князя к тому, чтобы пригласить в Москву опального Киприана. Василий нимало не сомневался в правоте Сергия, ибо верил, что славный старец этот, вдохновитель Донской победы, вполне постиг Бога, знал Его помыслы и предначертания и был призван на землю, чтобы осуществить Его намерения. Однако почему-то всегда сердцу Василия был ближе бесшабашный разудалый Пимин, нежели Киприан, который самого дьявола лукавством может обойти, — на словах прямодушен, а на деле скрытен и пролазчив. Но вот бедный Пимин, как и Митяй в свое время, вдруг отдал Богу душу свою многогрешную уже на самом подходе к Константинополю — в Халкиндоне, что на противоположной стороне устья Босфора.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: