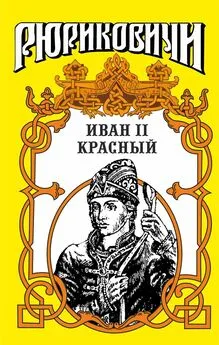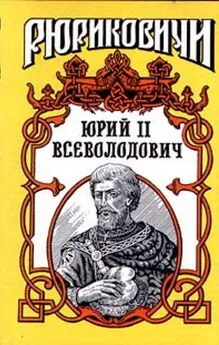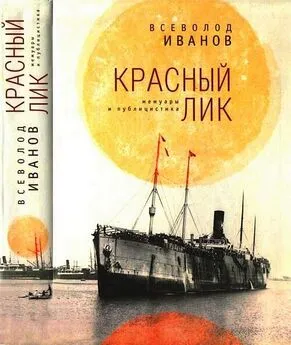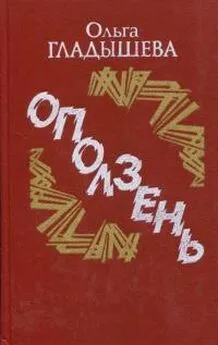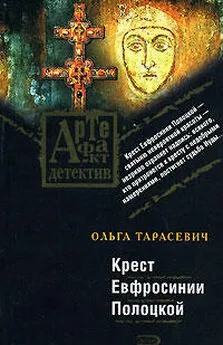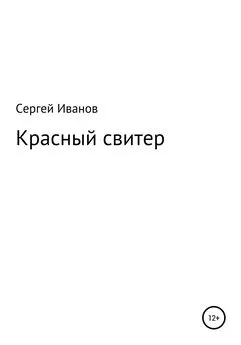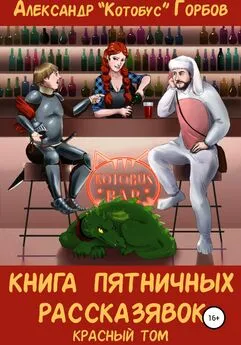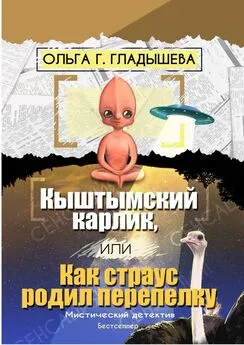Ольга Гладышева - Крест. Иван II Красный. Том 1
- Название:Крест. Иван II Красный. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Армада
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:5-7632-0701-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Гладышева - Крест. Иван II Красный. Том 1 краткое содержание
Сын и наследник Ивана I Калиты, преемник брата Симеона Гордого, отец и воспитатель будущего князя Дмитрия Донского, великий князь владимирский и московский, Иван Иванович оказался сопричастен судьбам великих своих современников. Несмотря на краткость своего правления (1353-1359) и непродолжительность жизни (1326-1359), Иван II Иванович Красный стал свидетелем и участником важнейших событий в истории России. Его правление было на редкость спокойным и мудрым, недаром летописцы назвали этого государя не только красивым, Красным, но и Кротким, Тихим, Милостивым.
Издание включает краткую биографическую статью и хронологическую таблицу жизни Ивана II Ивановича.
Крест. Иван II Красный. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Хотел вам с Семёном уезды да сельцы показать, какие вам по завещанию моему отойдут, — говорил отец. — Тебе Звенигород, да Рузу, да Суходол, а Семёну — Можайск, да Коломну, да Канев, да Гжели, да Горки... не упомню уж всего... а Андрею Лопасню, да Серпухов, да ещё много... Каждому брату по четыре цепи золотые, да ещё пояса золотые с каменьями, жемчугами и сердоликами, да чаши. А матушке коробочку мою золотую и монисто новое, что сам ей сковал.
Иван слушал с удовольствием, да вдруг встревожился, что-то в его детской голове просмеркнуло:
— А зачем завещание? Это ты зачем говоришь?
— Да та-ак, — протянул отец. — Я давно уж его написал, когда ещё в Орду за великим княжением ездил. Потом ещё одно написал.
— А мы в Сарай едем?
— Сейчас не в Сарай. Татары в Крым откочевали, в летнюю ставку зовут, вроде на отдых. А дань-то тоже не забудь прихватить, Иван Данилович! Вишь, сколько возов? С прошлого года им не плочено.
— Ты ведь никогда не умрёшь? — помолчав, спросил Иван.
— Конечно, никогда, — согласился отец. — Аль ты боишься? Нет, николи с нами этого не случится... Ни ты, ни я не помрём. Протасий! Скажи, чтоб привал трубили. Коней кормить пора.
Притрухал верхом Протасий.
— Уже голова к реке заворачивает, князь. Все устамши. С самой зари-мерцаны идём.
— Хорошо ли место-то?
— A-а, где ни стал, там и стан! — крикнул Протасий, отъезжая.
— А что останется от портов моих да поясов серебряных, то раздадите по всем попьям и на Москве, — вдруг прибавил отец. И сердечко у Ивана сжалось. Ему хотелось заплакать, но он переборол себя, только молча крепче ухватил отцову руку.
2
Мимо окна, обращённого к горе, с тихим шорохом проскакал камень и где-то внизу плюхнул в запруду. Несмотря на жаркий день, в келии было прохладно и темно. Высокие буковые деревья карабкались на вершину, тянулись к солнцу светло-серыми гладкими стволами в тонкой коре. Кроны их качались от неслышимого здесь, внизу, ветра, и солнечные пятна ползали и плясали на полу, на белёных стенах, то зажигая на мгновение золотом бронзовое распятие, то выхватывая и кровавя сизо-голубой баус — камень в окладе иконы Богородицы.
Феогност сидел в простом деревянном кресле, сделанном из того же бука, и чувствовал отдых в теле, равновесие в мыслях, спокойствие в душе. Он вспомнил два года, проведённые в такой же келии на Афоне, и усмехнулся: далеко же ты убрёл, Феогност! В оковах монашества жизнь его была тем не менее бурной, лишённой внешнего постоянства, столь переменчивой обстоятельствами, что иному мирскому человеку через край бы хватило. Но укрепа внутренняя нерушима была, неколебима. С нею он оставался, как в броне, при любых превратностях судьбы, в нищей рясе и в торжественном облачении митрополита, при высших знаках почитания и в грубом унижении, которого немало довелось пережить и не меньше ещё предстояло.
Всё время афонского послушания он трудился со счастливым тщанием, потому что любил знания. Чем богаче становились его знания о мире, тем больше восхищался он и благоговел перед сложностью премудрости Вседержителя, Творца неба и земли. Более всего охочлив был Феогност на языки. Кроме русского познал за два года церковнославянский, на коем службы правят и в Сербской митрополий, и в Болгарской. Помогали в учений болгарские насельники из монастыря Зографа, и сербы из Хилендарьского монастыря, и русские иноки из монастыря Святого Пантелеймона, уже свыше полутора веков отданного им и потому ещё называемого Старым Руссиком. Прислужник Фёдор, назначенный патриархом, оказался действительно сведущим и понятливым и, когда Феогност наконец заговорил по-русски, много чего обсказал ему про обычаи, привычки и особенности своего народа. Нельзя было не отметить, что не хвалился и не гордился, плохого не скрывал. Было в его рассказах, что умиление вызывало, а иное удивляло немало. Приходил обычно Фёдор лесной дорогой с полной пазухой орехов, большой был до них любитель, ими одними никак и питался, садился на открытой террасе и, разбивая орехи камнем, рассказывал, как почитают у них на Руси святителя Николая Миликийского [29] ...святителя Николая Миликийского ... — Николай Угодник, или Николай Мирликийский, в христианских преданиях святой из разряда святителей, то есть церковных иерархов. Время жизни Николая предание относит к первой половине IV века, а самое раннее житие о нём на полтысячелетия моложе. Являясь образцом аскетических добродетелей, идеального священника как «ревнителя» о вере и «печальника» о людях, Николай творит чудеса, раздавая дары нуждающимся и спасая невинных. Избрание Николая епископом города Мира в Ликии, на юго-западе Малой Азии (отсюда его прозвище), сопровождается знамениями и видениями, в одном из них Иисус Христос и дева Мария подносят Николаю знаки его сана — соответственно Евангелие и епископское облачение, омофор, — с которыми Николай чаще всего и изображался на русских иконах.
, в каждой избе его образ непременно имеется, какой великий праздник у них Покров Пресвятой Богородицы, как народ набожен и сострадателен, жесток и простодушен, честен и легко клятвопреступен, не жалует ратей, но воюет почти непрестанно, задушен татарскими данями, но всё равно богат и славен и в надежде на освобождение и мирное устроение жизни возносит свои молитвы. Патриарший добровольный выход [30] Патриарший добровольный «выход »... — Добровольная дань русской православной митрополии византийскому патриарху.
русичи платят исправно, но мечту имеют — уж не обижайся, грек! — чтобы митрополит у них был из своих, а не греческий, как покойный святитель Пётр был, но его святейшество сейчас не дозволяет, и восемь русских епископий пока вдовствуют.
Слушал его Феогност и по выработанной долгими усилиями привычке к сдержанности и отсечению воли старался не гадать, по какой надобности нагружается он сейчас таковыми сведениями и в чём они ему пригодятся. Только вспоминалось почему-то, что Юстиниан Великий, мрачный деспот и сокрушитель язычества, по происхождению был славянин и заложитель собора Святой Софии [31] ....Юстиниан Великий... сокрушитель язычества... и заложитель собора Святой Софии . — Имеется в виду Юстиниан I (482/83 — 565) — византийский император. Он завоевал Северную Африку, Сицилию, Италию, часть Испании. Провёл кодификацию римского права, стимулировал большое строительство — храм Святой Софии в Константинополе, система крепостей по дунайской границе.
.
С большим волнением воспринял Феогност посвящение в митрополиты Русской Православной Церкви, дивясь дальности умыслов о нём патриарха, мудрости его руковождения кроткого, глубине советов, которым не раз ещё предстояло следовать, когда уж и сам патриарх в жизнь вечную отойдёт. Немалый жизненный опыт подсказывал Феогносту, что им получено благословение на трудное служение. Не о чести он думал, не о власти полученной — о том, как ответ держать придётся перед Тем, Кто спросит в назначенный Им срок. А ещё: как вести паству, ему порученную, между деспотством и смирением христианским, удерживая силу первого, не давая отчаяться второму. Вот о Юстиниане-то и думалось. Да разве только император тому пример, что гордыня борет в человеке образ Всемилосерднейшего, ужасается сама себе, падает ниц, затопляема горячим раскаянием, но взмывает ино опять в пущем жаре и ослеплении.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: