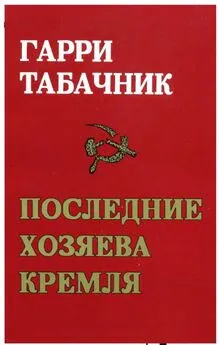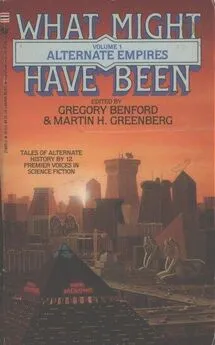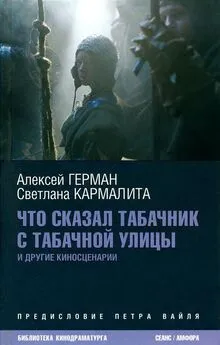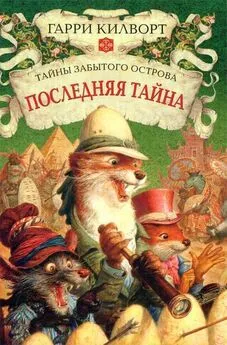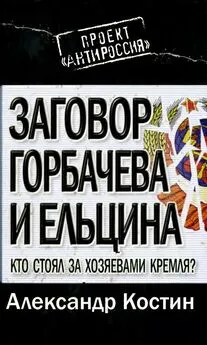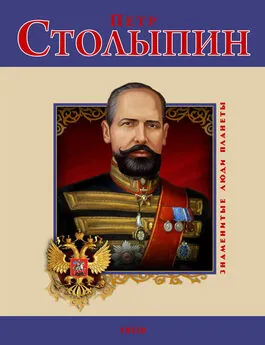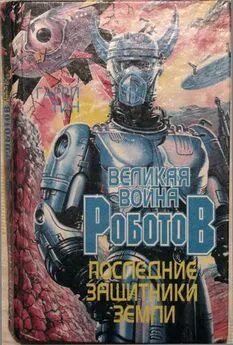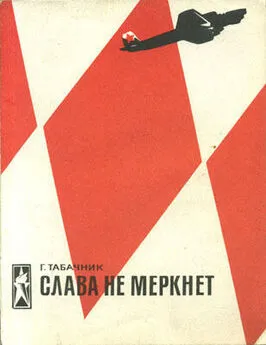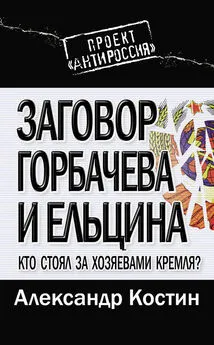ГАРРИ ТАБАЧНИК - ПОСЛЕДНИЕ ХОЗЯЕВА КРЕМЛЯ
- Название:ПОСЛЕДНИЕ ХОЗЯЕВА КРЕМЛЯ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
ГАРРИ ТАБАЧНИК - ПОСЛЕДНИЕ ХОЗЯЕВА КРЕМЛЯ краткое содержание
ПОСЛЕДНИЕ ХОЗЯЕВА КРЕМЛЯ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ведь он понимал, что, как отмечал Сахаров, „без радикальных реформ советской системы кредиты и техническая помощь только окажут поддержку режиму и задержат развитие демократии”. Если Горбачев на Мальте создавал впечатление готовности к радикальным реформам, то в Москве он или вынужден был отступить или же он вводил президента США в заблуждение. Возвращение к пятилетнему плану несомненно было победой консерваторов, а не выступившего открыто против них генсека теперь тоже следовало отнести к их числу.
Опять панацеей признавался план. И это тогда, когда на стояние в очередях уходило столько времени, что старый лозунг коммунистов „кто не работает — тот не ест” теперь перефразировали в: „тот, кто работает, — тот не ест, а кто не работает, — ест”, когда газеты писали, что 60 процентов выпускаемого в Российской федерации хлеба низкого качества и были полны жалоб на перебои в его снабжении. В одних булочных полки были пусты, а у других хлебовозы дожидались разгрузки, поскольку булочные не могли вместить доставленный ими хлеб. Так действовал план!
Но командующая страной партократия упрямо держалась за него. Это от ее имени говорил Рыжков, когда обещал выправить положение привычными средствами без обращения к западной модели. Когда газета восточногерманских коммунистов „Нойес Дойчланд” признала провал социализма, он настаивал на продолжении социалистического пути.
— Средства производства остаются в руках государства, — заявляет глава правительства, отвергая совет своего заместителя Абалкина, предложившего продать не приносящие прибыли предприятия частным лицам. у
— Нам не нужен тринадцатый пятилетний план, — отвечает депутат Г. Попов. — Нам нужен первый пятилетний план реформ; первый, который покончит с командно-административной системой; первый, ликвидирующий централизм; первый, который предоставит независимость предприятиям и республикам.
Но „агрессивно послушное большинство”, подвел итог депутат Ю. Афанасьев, испугалось и не решилось пойти на радикальный разрыв с прошлым. План был принят, и Горбачев, как писал один американский комментатор, в тот день „стал капитаном безнадежно тонущего корабля”. Вновь подтвердив незыблемость своей монополии на предприятия и оборудование, государство как и прежде мешало гражданам стать экономически независимыми от него. Оставаясь служанкой партии, государство лишало их возможности стать независимыми и политически, что сводило на нет все разговоры о демократизации.
Рано или поздно, если Горбачев действительно хочет, чтобы его страна стала правовым государством, ему придется последовать примеру О. Кромвеля и, как тому в свое время Долгому парламенту, сказать слишком долго занимающей престольное место партии: вы сидели здесь слишком долго... уходите... позвольте нам обойтись без вас... Во имя Бога, уходите!
У Никитских ворот в театре Маяковского давали пьесу Сомерсета Моэма, герои которой никак не могли вырваться из бесконечно повторяющегося круга одних и тех же жизненных ситуаций. И когда актриса с намеком произносила фразу о берущихся не за свое дело кухарках, мешающих вырваться из круга, зал понимающе отвечал аплодисментами. В круге одних и тех же повторяющихся уже восьмой десяток лет событий билась и страна
Независимый московский публицист в те дни сокрушался, почти дословно повторяя Чаадаева, что „умы наши пусты, слова и действия столь неосмыслены, глаза ничего не видят, а если и видят, то всякие пустяки... мы все, жители этой, столь протяженной в пространстве страны — слепцы, табуны и стада слепцов, бредущие или^бегущие (когда гонят) по... привычному кругу”.
Прорвать замкнутый круг попытались двести депутатов, собравшихся 14 декабря для того, чтобы обсудить возможность формирования официальной оппозиции.
,< — Мы не можем принять на себя всю ответственность за то, что делает сейчас руководство, — сказал Сахаров.
Сделанное им 21 год назад предсказание о том, что к 80-му году КПСС добровольно перестроится и в стране установится многопартийная система, не оправдалось. Конечно, то, что ему ныне было позволено открыто изложить свои взгляды с трибуны съезда, явилось огромным шагом вперед по тому пути „прогресса, сосуществования и интеллектуальной свободы”, который он давно считал единственно правильным для страны.
Но теперь этого уже было недостаточно. Сахаров вновь напоминал о том, что человек не имеет права ограничиваться малым. Он обязан следовать требованиям разума и добиваться создания достойной себя жизни.
— Руководство ведет страну к катастрофе, затягивая процесс перестройки на много лет. Оно оставляет страну на эти годы в таком состоянии, когда все будет разрушаться, интенсивно разрушаться. Все планы перевода на интенсивную, рыночную экономику окажутся несбыточными, и разочарование в стране нарастает. И это разочарование делает невозможным эволюционный путь развития в нашей стране. Единственный путь, единственная возможность эволюционного пути — это радикализация перестройки.
Он произносил эти слова, стоя перед картиной, изображавшей Ленина, призывавшего к защите созданного им режима. Теперь в „обстановке кризиса доверия к руководству” Сахаров призывал своих коллег „объявить себя оппозицией, принять на себя ответственность за^п^едлагае-мые нами решения”. Еще никто не знает о разработанном им проекте конституции Советских республик Европы и Азии, в котором совершенно не упоминается ленинское детище — партия и закрепляется уничтоженная первым вождем многопартийная система.
— Нам необходима демократическая оппозиция, — поддержал Сахарова Ю. Афанасьев.
Но решения в тот вечер принято не было. Вернувшись домой, Сахаров сказал, что на следующий день предстоит сражение. Это были его последние слова. На следующий день мир узнал о его кончине.
Был морозный декабрьский день. Шел необычный для этого времени года дождь со снегом. Не раз уже была повторена на русской земле фраза „и небо плакало”, но значит к тому было много поводов. Так было и 15 декабря 1989 года. Москва, еще недавно занесенная снегом, утопала в жидком, хлюпающем под ногами месиве. В ранних сумерках терялась огромная, растянувшаяся более чем на два с половиной километра вереница людей, пришедших отдать дань уважения человеку, которого назовут „совестью страны”, „моральным компасом”, „мучеником за грехи нашей системы”. Людской поток двигался от метро „Парк культуры” до Дворца молодежи. Стоять приходилось 5—6 часов. В очереди говорили: „Вот не послушались... Призывал к забастовке на два часа, а теперь вот стоим...”
По официальным данным, перед гробом академика прошло более ста тысяч, и это подобно верхушке айсберга свидетельствовало о том, что число, разделяющих его взгляды, во много раз больше. Милиция чинила препятствия, устраивала кордоны. Удалось прийти далеко не всем, кто хотел. Назвав своего оппонента человеком, „имевшим свои собственные убеждения и идеи, которые он выражал открыто и прямо”, Горбачев сказал, что смерть его — „громадная потеря”. Те, кто слушал его, вспоминали, что он был заурядным партийным чиновником, восхвалившим „философскую мудрость” Брежнева тогда, когда Сахаров понял, что собой представляет „философская мудрость” системы, отказывающей своим гражданам в основных правах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: