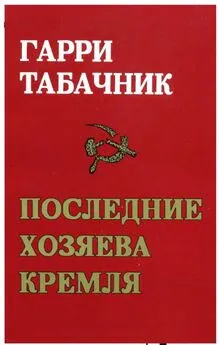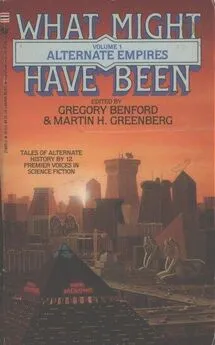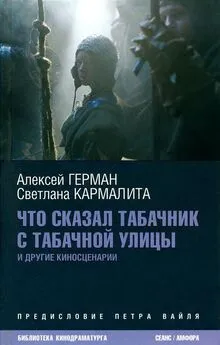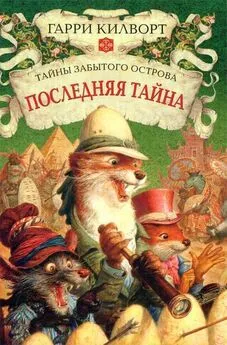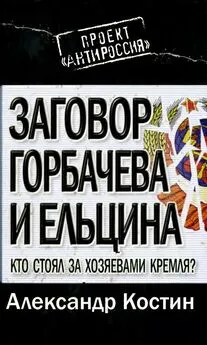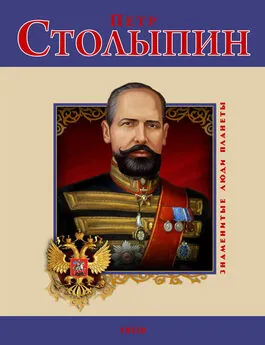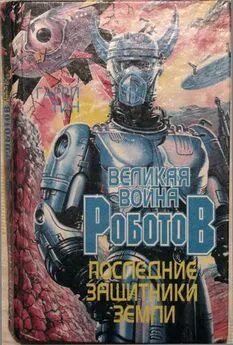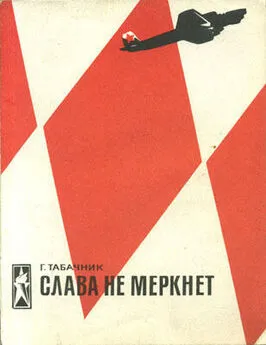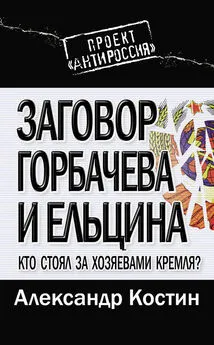ГАРРИ ТАБАЧНИК - ПОСЛЕДНИЕ ХОЗЯЕВА КРЕМЛЯ
- Название:ПОСЛЕДНИЕ ХОЗЯЕВА КРЕМЛЯ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
ГАРРИ ТАБАЧНИК - ПОСЛЕДНИЕ ХОЗЯЕВА КРЕМЛЯ краткое содержание
ПОСЛЕДНИЕ ХОЗЯЕВА КРЕМЛЯ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Макс Вебер в 1925 году писал, что существует три типа законной власти: та, что основана на праве, на традиции и на воле человека, правящего без законных на то оснований. То, что советская власть — есть власть третьего типа, сомнению не подлежит. Одна из отличительных черт ее — это отсутствие точного определения сферы деятельности аппарата принуждения и четких правил его применения. По сути дела, аппарат принуждения подобен цепному псу в руках диктатора, который спускает его на кого ему заблагорассудится, включая и сами органы.
Хрущев пытается вернуть партии ее положение. Цепь пса становится короче. Он уже не на первых ролях. Такое положение продолжается до появления на Лубянке Андропова. Он принимается за восстановление утраченных позиций. А для этого ему надо в первую очередь подчистить, как это делал Черненко в Молдавии, историю.
В течение 23 лет его предшественниками были: Ягода, Ежов, Берия, Абакумов, Круглов. Всех объявили врагами народа. Всех расстреляли.
Еще 14 лет органами руководили: Игнатьев, Серов, Шелепин, Семичастный. Трое из них сняты и ушли без почета. В истории ЧК, начавшейся в 1917 году, всех этих имен нет. В ней зияет пустота величиной в 37 лет.
Андропов оказался самым удачливым из тех, кто занимал кабинет на Лубянке.
Въехав в него весной 67-го года, он полон решимости избежать судьбы своих неудачливых предшественников и превратить органы из капкана в трамплин к власти, которой они так долго служили.
♦Можно представить, как, оставшись один и впервые усевшись за огромный письменный стол, он привычным движением потянул пальцы, пока не раздался хруст в суставах, поглядел на портрет Дзержинского. Затем обвел взглядом стены, словно ища портретов тех, кто занимал это кресло до него. Если бы он был суеверным, то ему должно было бы показаться, что их тени со следами выстрела на затылке обступили его. Его, как и каждого человека, не могли не заботить мысли о собственной безопасности. Все, что он знал, свидетельствовало о том, что в этом кабинете можно начать карьеру, которая казалась лучезарной. Конец же ее... Он невольно посмотрел на паркет, словно сквозь этажи пытался заглянуть в подвал. Возможно, что как раз в эти секунды там и заканчивается чья-то жизнь.
Он встал, подошел к окну и отдернул плотную, не пропускающую свет штору. Улицу заполняла по-летнему яркая московская толпа. Люди пили газировку, покупали мороженое, обнимались, встретившись у метро, читали газеты в скверике у памятника первопечатнику Ивану Федорову, сновали у входа в Детский Мир, и все они в любой момент могли оказаться здесь, в его владении; их жизнь, как и великого множества до них, могла окончиться в холоде темных подвалов.
Солнце опустилось ниже, и тень андроповского ведомства стала захватывать площадь. Вскоре не осталось уже места, куда бы она не доходила. Свету не оставалось ничего иного как отступить. А тень Лубянки все ползла, заполняя вначале ближайшие улицы и переулки и устремляясь дальше. Лучи солнца погасли...
Человек с холодным взглядом задернул штору пуленепробиваемого окна и вновь обратился к своим мыслям. Нет, с ним этого не произойдет. Его в подвал опустить не удастся. Кривая усмешка, скользнув по его тонким губам, исчезла... Он сам для кого хочешь найдет там место... Он был уверен, что добьется своего. Но для этого надо было прежде всего вернуть органам то положение, которое они занимали при Сталине*
Первый шаг в этом направлении делается в июне 1967 года, когда появляется сообщение, что Юрий Андропов стал кандидатом в члены Политбюро. КГБ тут же начинает активную кампанию, чтобы изменить то зловещее представление, которое сложилось о нем у граждан Советского Союза, где трудно найти семью, которой бы не коснулись щупаль-
ца КГБ. Теперь советских граждан хотели убедить в том, что ничего этого не было. А были лишь героические, кристально чистые чекисты, которые не думали ни о чем, кроме защиты интересов своей страны.
Проходит всего семь месяцев с тех пор, как он вступил в управление органами, и 20 декабря 1967 года Андропов появляется на трибуне Кремлевского Дворца съездов. Здесь отмечали пятидесятилетие с того дня,
когда в лице Дзержинского Ленин нашел своего Фукье-Тенвиля. О Дзержинском и о тех, кто работал с ним, новый глава КГБ говорил много, вспомнил он и Менжинского, но ни единым словом не помянул тех, кто пришел на смену им. Романтизируя годы революции и гражданской войны, он славословил ЧК, не считая нужным даже упомянуть ГПУ и НКВД. Весь довоенный период он охарактеризовал так: ”С ликвидацией враждебных классов центр тяжести все больше перемещался с борьбы против внутренних классовых врагов на борьбу против врагов внешних. В предвоенный период у органов госбезопасности не было более важной задачи, чем пресечение происков разведок и иной подрывной деятельности со стороны фашистской Германии и милитаристской Японии. Если врагу не удалось дезорганизовать наш тыл и подорвать боеспособность Советской страны, то в этом немалая заслуга принадлежит и органам безопасности.”
Андропов говорил о ’’перемещении центра тяжести с внутреннего фронта на внешний” в тридцатые годы, то есть как раз когда ’’славные органы” отправляли на смерть миллионы людей. Он говорил так о том времени, когда в язык вошли слова ’’тройка”, ”черный ворон”, ’’особое совещание”, ’’без права переписки”, ’’ежовые рукавицы”, когда громовым многократно повторяемым ревом доведенная до истерики толпа вслед за ’’славными органами” требовала: ’’расстрелять, как бешеных собак всех, кто не с нами”, когда под этот рев выбрасывались из окон своих кабинетов или пускали себе пулю в лоб, не дожидаясь, когда ее пустят им в затылок их коллеги, ’’славные чекисты”. Тем, кому из них удалось пережить время Ягоды, Ежова и Берии и занять место в Кремлев-ком дворце, слова Андропова пришлись по душе: они оправдывали их в их собственных глазах, перед своей совестью, если у них еще оставалась частица ее. Они с энтузиазмом хлопали словам своего шефа, хотевшего уверить всех, что самой важной задачей органов в предвоенные годы была борьба с разведчиками Германии и Японии. Он мог бы еще вспомнить и о румынской сигуранце и польской дифензиве, связь с которыми тоже была обвинением против тех, кого в те годы объявляли ’’врагами народа”. По Андропову выходило, что только с ними, с этими буквально наводнившими страну ’’шпионами” без устали боролись ’’славные чекисты”. Он настолько уверен во всеобщей тупости, что не удосуживается поразмыслить над простой арифметикой. Сколько должно было быть этих шпионов, чтобы для их обезвреживания понадобилось содержать такую огромную армию чекистов? Но если сумела вся эта несметная армия шпионов проникнуть на советскую территорию, то как тогда быть с теми, кому поручено держать границу на замке, пограничниками, которые также входят в состав органов? Если не было такого множества шпионов, то зачем нужно было тратить средства на огромную чекистскую армию, если ее основной задачей была борьба именно с этими
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: