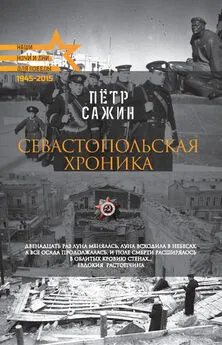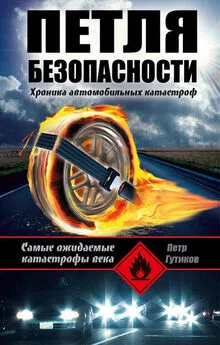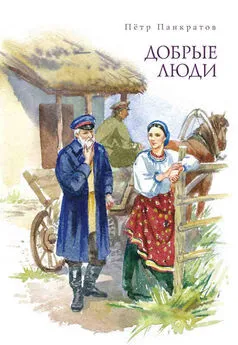Петр Сажин - Севастопольская хроника
- Название:Севастопольская хроника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «РИПОЛ»15e304c3-8310-102d-9ab1-2309c0a91052
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-386-07933-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Сажин - Севастопольская хроника краткое содержание
Самый беспристрастный судья – это время. Кого-то оно предает забвению, а кого-то высвобождает и высвечивает в новом ярком свете. В последние годы все отчетливее проявляется литературная ценность того или иного писателя. К таким авторам, в чьем творчестве отразился дух эпохи, относится Петр Сажин. В годы Великой отечественной войны он был военным корреспондентом и сам пережил и прочувствовал все, о чем написал в своих книгах. «Севастопольская хроника» писалась «шесть лет и всю жизнь», и, по признанию очевидцев тех трагических событий, это лучшее литературное произведение, посвященное обороне и освобождению Севастополя.
«Этот город “разбил, как бутылку о камень”, символ веры германского генштаба – теории о быстрых войнах, о самодовлеющем значении танков и самолетов… Отрезанный от Большой земли, обремененный гражданским населением и большим количеством раненых, лишенный воды, почти разрушенный ураганными артиллерийскими обстрелами и безнаказанными бомбардировками, испытывая мучительный голод в самом главном – снарядах, патронах, минах, Севастополь держался уже свыше двухсот дней.
Каждый новый день обороны города приближал его к победе, и в марте 1942 года эта победа почти уже лежала на ладони, она уже слышалась, как запах весны в апреле…»
Севастопольская хроника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Здесь были защитники Родины. Нюра, Лида, Фрося».
«Привет Краснодару из Севастополя. 11.III.44 г.».
«Пишу сюда рукой небрежной, чтоб через много, много лет от жизни краткой и мятежной какой-нибудь остался след».
Когда я уже выходил из Панорамы, в нее вошла пожилая женщина. Разговорились. Она сказала, что и на Пироговке, в бараках, много надписей, и в каменных мешках Константиновского равелина…
– Да боже мой! – воскликнула она. – Где их нет?! Наш народ как ветер – его не сломишь! Где сидели – везде писали правду…
Я обошел пустые бараки на Пироговке. Бараки мрачные, надписи мелкие – трудно было не только записывать, но и прочесть. И все же записал я часть из них:
«Мы жили здесь с 30.VII.43 года, а раньше на Ленина, 100. Нам было очень тяжело и грустно. 4.V.44 отправлены в Румынию: Гостищева Люба, Гостищева Феодосия, Юнусов Алик, Федосеева. Прощайте, друзья, наше сердце в слезах. Помните нас!»
«Манюка Ксения Александровна, Белякова Мария Григорьевна. Жили раньше в этом деревянном бараке, эвакуировались 8 мая поневоле в Румынию. Прощайте, дорогие друзья».
И на каменных степах Константиновского равелина остались такие же следы.
«Дорогая Родина, не забывай нас, мы не забудем тебя. Крогулецкая».
Ниже стоит еще текст:
«5 мая 1944 года были здесь Крогулецкая Лида, Вадим, Тасик. Вывозят неизвестно куда. До свидания, дорогие. Сообщите родным в Евпаторию».
«Почтим память находившихся в лагере жителей Бартеньевки и Северной. Великов, Воронина, Луцик».
Поездки по городу были не просто интересны, а нужны для моей журналистской работы – я обязан был обо всем этом писать в газету. Стало быть, я работал. Но, и работая, я не забывал о Карантинной бухте, о катакомбе, где жили во время обороны Севастополя мои друзья, Когут, Иш и Галышев, и где я провел с ними в 1942 году несколько дней. Мои друзья – журналисты центральных газет «Красной звезды», «Известий» и «Красного флота», они не смогли эвакуироваться. Еще в Симферополе люди, вышедшие из подполья, говорили, что видели их в колонне пленных избитыми и окровавленными.
Мне смертельно хочется посмотреть, что стало с «дотом бойцов газетного листа». Цел ли фанерный купол, который защищал нас во время бомбежек от песка и пыли?
Достаю машину и еду в Карантинную. Немцы все еще сопротивляются – их снаряды нет-нет да ложатся у дороги. Следующая за Карантинной – Стрелецкая бухта. Немцы все еще там, «у них» до черта «техники», как объяснил мне хозяин машины.
Карантинная бухта пуста. По-видимому, во время оккупации Севастополя немцы не пользовались ею. Я долго искал нашу катакомбу, а когда нашел, был поражен – вместо уютного обжитого могильника, в котором были четыре постели в нишах, пишущая машинка и исписанный, обтянутый фанерой потолок, обыкновенная дыра с земляными уступами. И все.
Я долго стоял с поникшей головой. Грустно. Ужасно грустно оттого, что я больше уж никогда не увижу ни Сергея Галышева, ни Льва Иша, ни Когута.
Пусты и минные штольни, в которых размещался штаб генерала Петрова – героя обороны Одессы, Севастополя и Кавказа, замечательного полководца и человека редчайшей души.
Темным провалом зиял и вход во вторую минную штольню, где находился политотдел, в нем работал страдающий отчаянным ревматизмом бригадный комиссар Аксельрод, знакомый мне еще по обороне Одессы. Я хорошо помню, что Аксельрод даже в июньскую жару носил валенки – так проклятый ревматизм сводил ему ноги…
Запустение в бухте. Лощинка поросла бурьяном. Кругом валяется какое-то военное имущество, ржавые гильзы, смятые каски, колесо от повозки, высохший армейский ботинок, разбитое, чуть почерневшее ложе от винтовки… Словом, стандартный натюрморт войны.
Листаю страницы с записями более чем двадцатилетней давности, и запись от 12 мая 1944 года: «Веретенников, последний выстрел». Что это? Кто такой Веретенников?
И я вижу раннее утро 12 мая. В штабе флота мне сказали, что сегодня решено подавить сопротивление немцев на мысе Херсонес: им предъявлен ультиматум и дан срок для ответа. Я быстро нашел попутку. И мы с художником Сойфертисом поехали к Стрелецкой, еще слышались артиллерийские выстрелы, и в воздухе еще кружились самолеты и рвались зенитные снаряды. У Стрелецкой сошли с машины – дальше ехать нельзя. Такой картины войны мы еще не видели.
Девятого мая сюда, к севастопольским бухтам, была прижата армия генерала Альмендингера – свыше пятидесяти тысяч отлично вооруженных солдат, огромное количество артиллерии, танков, авиации. Прижата и в течение двух суток разгромлена.
Мы шли по свежим следам только что свершившейся трагедии: под убитыми еще кровь не спеклась, сухая севастопольская земля не приняла ее. Еще не везде улеглась пыль, поднятая взрывами последних снарядов. Горели машины, склады бомб и артиллерийских зарядов.
Навстречу брели пленные. Они имели жалкий вид. Какой-нибудь час-два тому назад они составляли армию, способную драться, а теперь это стадо, грязное и трусливое, тревожно ждущее возмездия.
Недалеко от нас у дороги стоял матрос с автоматом дулом вниз. Что-то знакомое было в чертах его лица. Приглядевшись, я узнал его. Это был Веретенников. Высокий крепыш – разведчик из отряда партизан-моряков, которым командовал капитан-лейтенант Вихман.
Веретенников ворвался в Севастополь с передовыми частями. Сейчас добирался до Херсонесского маяка. Обходя трупы, горящие машины и разбитую технику, мы уже втроем шли по пыльной дороге вперед.
На пути нам попадалось очень много раненых и пристреленных лошадей. Уж не румынского ли генерала Мечульского дивизии эти лошади? А впрочем, не все ли равно, чьей дивизии принадлежали эти лошади? Но те, кто держал их под седлом, поступили самым подлейшим образом: большинство животных были подстрелены своими хозяевами. Лошади так страдали от мучительных ран. Когда мимо проходил кто-нибудь, они вскидывали головы с глазами, полными слез, и тяжко вздыхали.
Даже видавший виды Веретенников и тот отворачивался, когда мы проходили мимо раненых лошадей.
А пленные все шли и шли – их было двадцать пять тысяч. Среди них брели, опустив головы, переодетые в мундиры рядовых командир 5-го армейского корпуса генерал-лейтенант Беме и командир 111-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Грюнер.
Они проходили мимо трупов своих солдат, мимо изуродованных и целых пушек, машин, повозок, ящиков. На поле валялись бумаги, рюкзаки, одеяла, винтовки, гранаты, шинели, зубные щетки, каски, консервы и еще бог знает какое количество разных вещей.
Из Казачьей и Камышевой и из бухты Омега тянуло гарью. То горели баржи и корабли, которым так и не удалось в это утро уйти к Констанце. На аэродроме в капонирах стояли самолеты. И на запад – от Херсонесского маяка до Круглой бухты – берег завален трупами, брошенным оружием и рухлядью. Трупы в блиндажах и траншеях, вырытых по всему берегу; в дзотах и воронках от бомб, в нишах обрыва. Трупы качаются в прибрежной волне, на плотах и пробковых лодках.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: