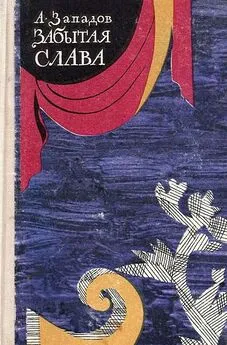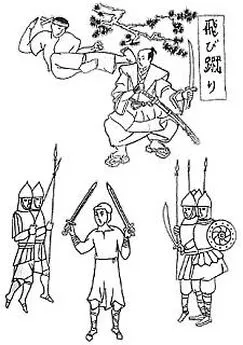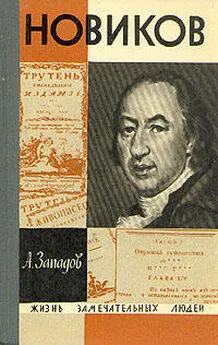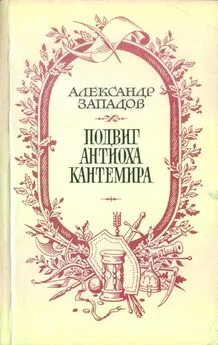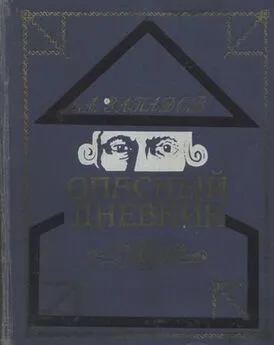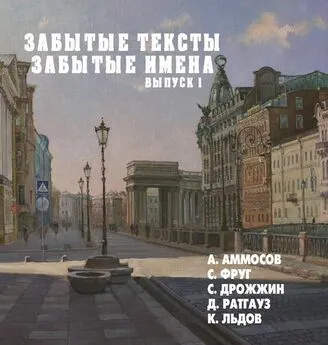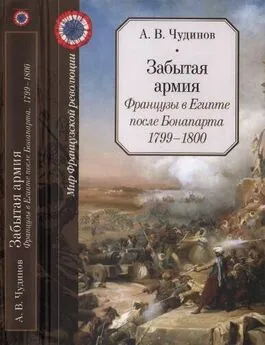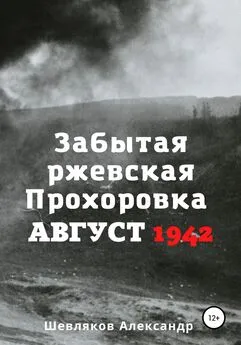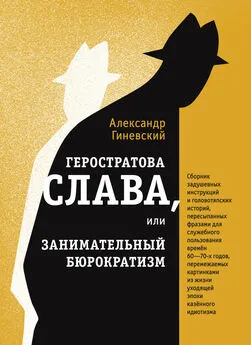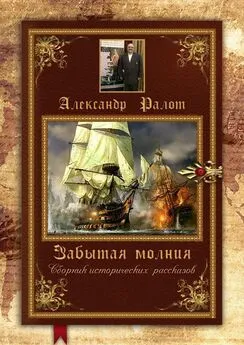Александр Западов - Забытая слава
- Название:Забытая слава
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1968
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Западов - Забытая слава краткое содержание
Александр Западов — профессор Московского университета, писатель, автор книг «Державин», «Отец русской поэзии», «Крылов», «Русская журналистика XVIII века», «Новиков» и других.
В повести «Забытая слава» рассказывается о трудной судьбе Александра Сумарокова — талантливого драматурга и поэта XVIII века, одного из первых русских интеллигентов. Его горячее стремление через литературу и театр влиять на дворянство, напоминать ему о долге перед отечеством, улучшать нравы, бороться с неправосудием и взятками вызывало враждебность вельмож и монархов.
Жизненный путь Сумарокова представлен автором на фоне исторических событий середины XVIII века. Перед читателем проходят фигуры правительницы Анны Леопольдовны и двух цариц — Елизаветы и Екатерины II.
В книге показаны главные пути развития общественной и художественной мысли в России XVIII века, изображены друзья и недруги Сумарокова — Ломоносов, Тредиаковский, Панины, Шувалов, Алексей Разумовский, Сиверс.
Повесть написана занимательно; факты, приводимые в ней, исторически достоверны.
Забытая слава - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Я буду жаловаться государыне! — верещал из-за дверей Бутурлин. — Узнаешь, пьяная голова, как чинить разбой, отведаешь монастырской похлебки!
— Дай ему! Бей окна-то! — закричали сзади.
Сумароков обернулся. Двор наполнили любопытные.
Ворота были распахнуты настежь, и прохожие, привлеченные шумом, уже составили толпу нетерпеливых зрителей.
— Стучи сильнее — откроют, стучи!
Сумароков отер со лба пот и вложил в ножны клинок.
Погорячился, надо остановиться вовремя. Публичность яри семейных ссорах ни к чему.
Он сошел с крыльца и побрел к воротам. Люди, толкаясь, отступали на улицу. Бутурлин приоткрыл дверь, высунул голову и показал уходившему Сумарокову язык. Кащей был даже рад скандалу — есть о чем писать в слезной жалобе на высочайшее имя.
Вскоре Бутурлин сочинил прошение императрице и заставил Прасковью Ивановну приложить к нему руку. Он расписывал, как Сумароков обнаружил свой неистовый дух, пришел в дом, совсем из ума исступивший, злоречил и угрожал матери, гостей разогнал, родственники спрятались по комнатам. Сумароков же, видя, что спорить не с кем, выбежал во двор со шпагой, грозил переколоть прислугу, зачем его в дом не пускают. Несколько часов озорничал, весь переулок смотрителями наполнился. На следующий день опасались его прихода и просили у главнокомандующего для защиты военного караула. А Сумароков ничего не боится, порицать и злословить не перестает.
Екатерина с брезгливой гримасой выслушала слезницу Бутурлина, прочитанную секретарем Олсуфьевым, не очень поверила ей, но без ответа не оставила. За Сумароковым в самом деле водились странности. Иоганна от него ушла, что-то говорят о крепостной его любовнице, ныне мать на него жалобу подает… Екатерина приказала напомнить Сумарокову ее решение по делу Андрея Бестужева-Рюмина и предупредить, что и с ним так же будет поступлено.
Сын бывшего канцлера Елизаветы Петровны графа Алексея Петровича Бестужева, возвращенного из ссылки и реабилитированного Екатериной, Андрей Алексеевич был женат на княжне Анне Долгорукой. Жил он с ней неладно, проматывал женино состояние и наконец попросту согнал со двора. Алексей Петрович встал на защиту невестки и просил императрицу наказать сына.
Екатерина не пожелала вмешиваться в семейную распрю и ответила, что поступки графа Андрея достойны всякого похуления, но кому же исправлять сына, как не отцу его? Андрей погрешил перед ним, раздражил своим жестоким обращением с женою, однако перед государем и отечеством, он не совершил проступка, за который следует наказывать по законам.
Бестужев-отец настаивал, и Екатерине пришлось выполнить его просьбу. Андрея лишили чина действительного тайного советника и сослали на покаяние в Александро-Свирский монастырь.
Неизвестно, как долго просидел бы там Андрей, но старика Бестужева схватила смертельная болезнь, он пожелал простить сына, и тот в мае 1766 года был освобожден. Все ж имения Андрея были взяты в опеку, а сам он обязался жить добропорядочно, да притом в деревни свои отнюдь не въезжать и в управление ими не вмешиваться.
То, что сделано было с Андреем Бестужевым, называлось усмирением и знаменовало полноту родительской власти в дворянских семьях. Екатерина выказала себя ее сторонницей и по жалобе матери Сумарокова могла поступить с ним таким же образом — отдать в монастырь.
Сумароков не стал ждать новых устрашений и покинул Москву.
Комиссия, вслед за императрицей, в декабре 1767 года перебралась в Петербург и через два месяца вновь открыла свои заседания. Сначала депутаты слушали законы о юстиции. Особых прений они не вызывали. Депутаты скучали, и если бы не строгость маршала, зорко следившего за дисциплиной Большого собрания, давно бы перестали отбывать свою повинность и предались радостям столичной жизни.
Но вот седьмого апреля дошла очередь до законов о беглых мужиках, и лености сразу поубавилось. Разговор пошел о том, что, по-разному, конечно, волновало всех депутатов — дворян, пахотных солдат, черносошных крестьян и казацких старшин.
Законов о беглых было много — около двухсот. Их читали на девяти заседаниях, и депутаты терпеливо слушали ежегодно повторявшиеся указы об отдаче беглых холопов и крестьян по крепостям их помещикам, о чинении им за побег наказания, бив кнутом нещадно, о недержании в городе воеводам и приказным людям у себя беглых людей под опасением жестокого страха, о битии беглых людей, при отдаче, кнутом, об учинении по польской границе застав — и опять о беглых, о беглецах и беспаспортных… Новые указы подтверждали прежние, строгости усиливались, а крестьяне по-прежнему бежали от помещиков в дремучие северные леса, в донские степи, за польский рубеж.
Почему бегут они и как прекратить оскудение людьми Русской земли — эти вопросы неминуемо встали перед депутатами, и они попытались разобрать причины такого неустройства.
Первое слово сказал города Углича депутат Сухопрудский. Он посоветовал у ведать истину: сами ли бегающие, будучи невоздержаны и беспокойны, отваживаются чинить побеги либо дело тут в другом — не бывает ли у них несносной по недостатку пропитания нужды, вымогательства непосильных податей, напрасных побоев, необыкновенной строгости?
Сухопрудский, городской человек, рассуждал теоретически, но в речи его, несмотря на всю осторожность, проглядывал ответ: бегут мужики не по своевольности характера, а от нестерпимой жестокости помещиков.
Депутат обоянского дворянства Михаил Глазов яростно запротестовал против попытки какого бы то ни было государственного вмешательства между господами и крестьянами.
— Чинятся побеги, то самое правда, — говорил он. — А для чего бегут, свидетельствуют рапорты от губернаторов и воевод — сколько владельцев побито до смерти и замучено с женами и детьми, сколько крестьян и беглых солдат в разбойных делах повинно, да они к тому же и не сысканы. Господа должны строже смотреть за своими людьми, это их дело. Ограничить же дворянство законом нельзя никак.
Верейского дворянства депутат Петр Степанов поддержал Глазова и очернил беглых крестьян.
— Беглецы наши суть пьяницы и лентяи, — сказал он. — Зараженные такими пороками, они оставляют дома свои, бегут от гнева господ, коих непорядками уже раздражили, прельщенные праздностью, тащатся в Польшу, идут в раскольничьи скиты либо, собравшись шайками, принимаются за разбои. Это люди такие, которые не стоят России сожаления, что она их теряет. Их можно счесть вредными и заразительными отраслями народа.
Дворянские депутаты дружно охраняли свои права и с негодованием порицали беглых крестьян. В народную защиту выступили депутат от пахотных солдат нижегородской провинции Иван Жеребцов и депутат Козловского дворянства Григорий Коробьин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: