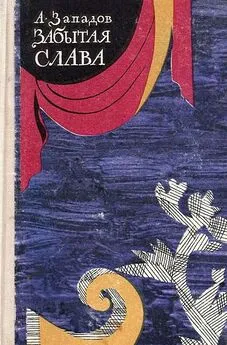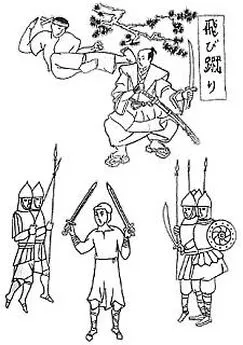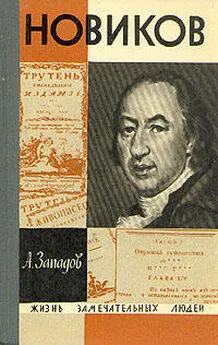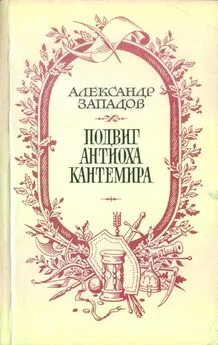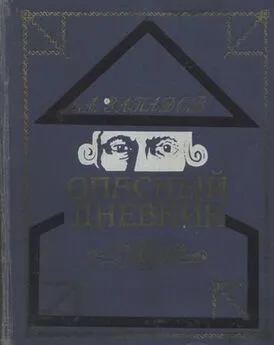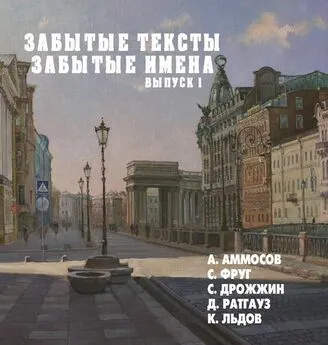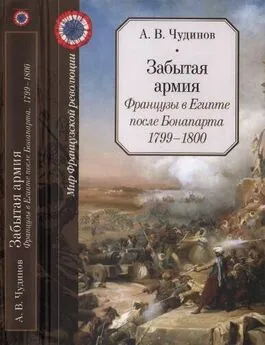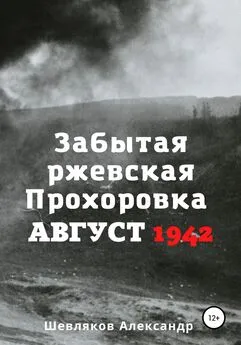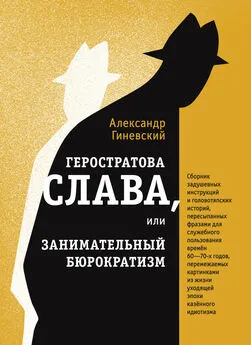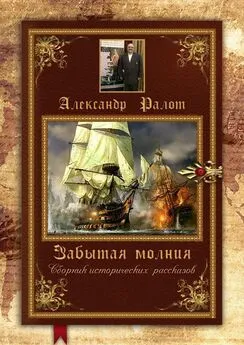Александр Западов - Забытая слава
- Название:Забытая слава
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1968
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Западов - Забытая слава краткое содержание
Александр Западов — профессор Московского университета, писатель, автор книг «Державин», «Отец русской поэзии», «Крылов», «Русская журналистика XVIII века», «Новиков» и других.
В повести «Забытая слава» рассказывается о трудной судьбе Александра Сумарокова — талантливого драматурга и поэта XVIII века, одного из первых русских интеллигентов. Его горячее стремление через литературу и театр влиять на дворянство, напоминать ему о долге перед отечеством, улучшать нравы, бороться с неправосудием и взятками вызывало враждебность вельмож и монархов.
Жизненный путь Сумарокова представлен автором на фоне исторических событий середины XVIII века. Перед читателем проходят фигуры правительницы Анны Леопольдовны и двух цариц — Елизаветы и Екатерины II.
В книге показаны главные пути развития общественной и художественной мысли в России XVIII века, изображены друзья и недруги Сумарокова — Ломоносов, Тредиаковский, Панины, Шувалов, Алексей Разумовский, Сиверс.
Повесть написана занимательно; факты, приводимые в ней, исторически достоверны.
Забытая слава - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И не пора ли ему переменить город?
В Петербурге жить становилось неспокойно. Пока Сумароков сидел дома и писал, его одиночество было не так заметно. А когда он кончил работу, оказалось, что идти некуда. Его сторонились и к нему не ездили. Сочувствие двора и петербургских гостиных было на стороне Иоганны. В доме, где хозяйкой осталась крепостная раба, бывать неприлично. Это общее мнение скоро дошло до Сумарокова. Обозлившись на всех и на себя, за то, что он ожидал такого результата, но к нему не подготовился, Сумароков и сам ни к кому не ездил, иногда гулял по линиям Васильевского острова, но не переходил мост.
Нужно было что-то предпринимать. Вера не сознавала сложности обстановки, в которой он очутился. Она хлопотала вокруг маленькой дочки, слушала чтение Сумарокова, вела, как умела, дом и была довольна своей судьбой. Отец ее Прохор, слонявшийся целыми днями без дела — Сумароков не приказывал запрягать, — выпивал все чаще, и дворовые в открытую смеялись над пьяным «барским тестем».
Однажды Сумарокову подали конверт — принес неизвестный человек, чей-то лакей, ответа не спросил. В конверте были гнусные стихи — о нем и о Вере. Пасквилянт осуждал Сумарокова за семейный разлад и глумился над Верой. Сумароков побелел, читая бойкие строчки, написанные как бы от его имени:
Пришел желанный час! Прошло уж время злое!
Оставила меня теперь жена в покое!
…Чтоб больше заслужить твою ко мне любовь,
Я яростью зажег против нее всю кровь.
Везде ее браню, о зле ее стараюсь,
И дети мерзки мне, и ими я гнушаюсь.
— Собака! — произнес Сумароков. — Холуйское перо! Все врет, негодница! Детей люблю, желаю им счастья.
…Со всеми хоть тогда лакеями таскалась,
Но страстная душа надеждами ласкалась,
Что буду я тебе сих подлых всех милей.
Коль подлых любишь ты, то я их всех подлей.
Сумароков разорвал бумагу на мелкие клочки и швырнул их об пол. Опять упреки простым людям в подлости! Подумаешь, какой благородный нашелся! Строки, обращенные к Вере, при всей их чудовищной несправедливости задели его меньше, чем упреки в подлости, то есть в низком происхождении. Нет по крови благородных и подлых людей! Все они одинаковы и различествуют лишь по своим достоинствам. Об этом он писал часто и вновь готов повторить. Честь наша не в титлах состоит. Тот сиятельный, кто сердцем и разумом сияет, тот превосходительный, который других людей достоинством превосходит, и тот болярин, который болеет за отечество.
Так или иначе, подметный стишок (кто мог его состряпать? ни слога, ни почерка Сумароков не узнавал) — был признаком весьма неприятным. Семейный раздор получил слишком широкую огласку и сделался темой бездарных и мерзких стишков. Сумароков обиделся и на это — стишки о нем могли быть написаны пограмотнее. Уж он-то сумел бы ответить анонимному виршеплету так, что тот без памяти унес бы ноги из города в глухую деревню и просидел бы там до конца своих дней.
Но, кажется, нынче уносить ноги нужно ему.
Ждать от Петербурга больше нечего. Видно, судьба хочет видеть его московским жителем, и спорить с нею — напрасный труд.
В Москву из северной столицы отъезжали вельможи, попавшие в немилость или желавшие окончить век подальше от двора с его суетой и соблазнами. Столичная знать держала в Москве дворцы и дома. На Никитской стояли хоромы княгини Дашковой и графини Головкиной, на Воздвиженке — Разумовских и Нарышкиных, на Знаменке — Апраксиных, на Тверской — Чернышовых и Салтыковых, на Моховой — Пашковых и Барятинских. Под Москвой, в Михалеве, раскинулась усадьба Петра Ивановича Панина, на Покровке выстроился Иван Иванович Шувалов. Повернется к кому фортуна лицом — добровольный изгнанник возвратится в Петербург, а нет — и так проживет, ворча на новые порядки и вспоминая о прежних своих удачах.
Москва была центром оппозиции правительству Екатерины, зорко следившей за разговорами и настроением тамошних дворян. Главнокомандующий Москвы через тайных осведомителей узнавал, о чем болтают за обедом подвыпившие гости где-нибудь на Разгуляе у Мусина-Пушкина или на Гороховой у Куракиных, и обо всем неукоснительно рапортовал в Петербург. Пока ничего серьезного услышано не было, да и слава богу, что так. Мужики неспокойны, война с турками берет много денег и солдат, товары вздорожали, — надобно начальству смотреть и смотреть, чтобы сохранить благочиние в Первопрестольной.
Для исправления нравов московского дворянства и разного звания людей вот как нужен театр! Сцена представляла бы образцы людей, подражания заслуживающих, в сатирических комедиях осмеивала пороки. Русские пьесы есть, можно играть каждый день, и в репертуаре этом Сумарокову принадлежит львиная доля — больше пятнадцати драматических сочинений.
Русский театр в Москве уже три года содержал полковник Титов, но был он чужд сценическому искусству и деловыми способностями не обладал. Потому актеры шалбеничали, от серьезной игры отстали, и смотрителей на спектакли собиралось мало. Антреприза Титову не удалась, это ясно, а если приложить к делу желание, умную голову да умелые руки, театр в Москве мог бы греметь и приносить пользу обществу. Вот чем заняться стоило бы!
Поедет он в Москву с Верой, Настенькой и Прасковьей. Старшая дочь, Екатерина, давно уже заневестилась, и жених ее, Яков Борисович Княжнин, торопил свадьбу. Сумароков радовался этому браку. Он очень любил Екатерину — дочка вышла характером в него, наследовала от отца горячую любовь к поэзии, сама писывала стихи. Сумароков еще в «Трудолюбивой пчеле» печатал ее девические наброски, пройдясь по ним рукой мастера, но сохранив для читателей имя авторши.
Княжнин был сыном вице-губернатора, получил хорошее образование, с детства писал стихи. Он служил сначала в иностранной коллегии у Никиты Ивановича Панина — и этим также стал близок Сумарокову, — а потом достиг офицерского звания и быстро выдвинулся в адъютанты при дежурных генерал-адъютантах императрицы. Княжнин сочинял трагедию «Дидона», и Сумароков предсказывал ему славу знаменитого драматурга.
Словом, старшая дочь будет надежно пристроена, Пашенька живет пока с ним. Когда придет время, — а ждать недолго, ей шестнадцатый год, — он подумает о женихе.
Дом в Петербурге придется продать. Вряд ли много за него дадут, — кому из богатых людей захочется жить на Васильевском острове? На переезд понадобятся деньги, жалованье за год вперед все истрачено…
…Сев за стол, Сумароков почувствовал потребность выговориться, излить душу.
Он взял гусиное перо — десяток их, тщательно очиненных Верой, стоял перед ним в стакане — и с маху написал:
Страдай, прискорбный дух! Терзайся, грудь моя!
Несчастливее всех людей на свете я!
Интервал:
Закладка: