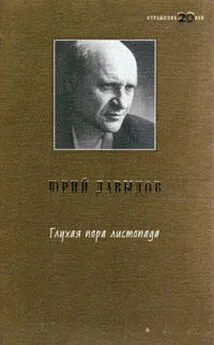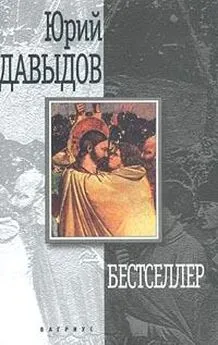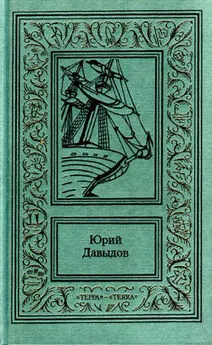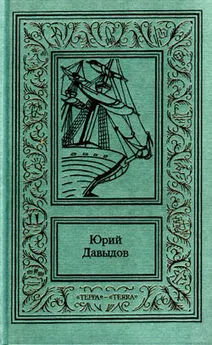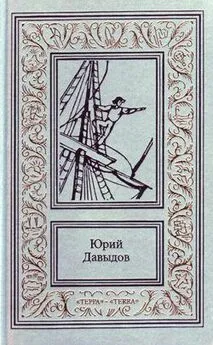Юрий Давыдов - Глухая пора листопада
- Название:Глухая пора листопада
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель, Олимп
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-7390-0715-1, 5-271-00200-4, 5-237-03681-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Давыдов - Глухая пора листопада краткое содержание
"Глухая пора листопада" – самый известный в серии романов Юрия Давыдова, посвященных распаду народовольческого движения в России, в центре которого неизменно (рано или поздно) оказывается провокатор. В данном случае – Сергей Дегаев, он же Яблонский...
Глухая пора листопада - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Давнишнее, занесенное временем, шевельнулось в Сизове. После уж он понял, что шевельнулось: московское, заводское, как он с покойным братом Митей ходоком отправился в контору Смоленских мастерских и говорил там с инженером Орестом Павловичем… Но это он потом понял и вспомнил, а сейчас, в первую минуту, хотелось ему отстраниться: плетью обуха не перешибешь. Он потупился, чтоб не видеть эти лица с острыми скулами, сухими губами, морщинистые лица людей без возраста.
– Слышь, Сизов, – позвал его просительный голос. – Сдохнем мы тута, как пить дать сдохнем. А язык у нас будто подрезанный, лыка не вяжет. Ты бы уж, брат, сказал чего следоват. А? Всем, видишь, обчеством к тебе…
Коротко вздохнув, Нил пошел к решетке, к часовому.
– Господин часовой, – негромко и сипло выговорил Сизов. – Пригласите к нам старшего офицера.
Часовой качнул головою, ответил, как посоветовал:
– Эх, малый, не при на рожон. Хуже будет.
– Не будет, – сказал Нил.
– Ладно. Мне что ж… – Часовой переступил с ноги на ногу. – А зря, малый, ей-богу, зря.
Явился старший офицер «Костромы», лейтенант – белый китель и белая фуражка, – брезгливо повел носом, заложил два пальца за борт кителя.
– Ну-с? Чего изволите?
Сизов не ждал ни вежливости, ни даже снисходительности. Но он не был готов к столь откровенному брезгливому презрению. Этот снежный, без единого пятнышка китель, эти небрежные два пальца, этот надлом брови… Лейтенант не походил на привычных Сизову жандармских ротмистров, любезных или крикливых, сумрачных или равнодушных. Те были врагами, мучителями, сволочью, но с теми он как бы сжился: он и они были как бы из одного тюремного мира.
А этот серафим с блсскучими орлеными пуговицами, этот каютный чистоплюй с кортиком, этот картинный морской фат показался Сизову во сто крат ненавистнее. И что еще хуже, больнее, унизительнее: при виде серафима, снизошедшего в тюремный смрад, Сизов ощутил собственную телесную грязь, свою липкую кожу, свою противную сыпь, весь отвратный и жалкий свой облик в парах вонючей атмосферы. Ощущение было настолько явственным, что Сизов оробел, смешался и одновременно со все нарастающей, слепящей силой чувствовал ненависть не только к старшему офицеру, но и к самому себе.
– У меня дело не личное, – начал Сизов, выговаривая слова с усилием и оттого чересчур отчетливо. – Я за всех, по общей просьбе… Я понимаю, в море кормить трудно. Но здесь, в порту? Вы должны знать: могут выйти волнения. Ни вам, ни нам…
– «Волнения»? – лейтенант вскинул подбородок, брякнул кортиком о решетку. – Ты эт-то о ка-а-аких «волнениях»?! Ты эт-то что себе позволяешь, мерзавец?!
«Тыканье» было не только обычным, оно вменялось в обязанность при обращении с каторжанами. Политических «ты» оскорбляло, выводило из себя, к вящему удовольствию «тыкающих». А Сизову, напротив, казалось, что «вы» всегда сулит неприятную неожиданность. Солдатское или унтерское «ты» и вовсе не трогало Нила. В конце концов были они с ним одной кости, разве что в разных шкурах.
Но сейчас этот белоснежный гоголь «тыкал» нарочито, подчеркнуто, брезгливо, издевательски, и Сизов, уставив потемневшие глаза на лейтенанта, на его твердый роток, на губу его со светлой щеточкой усов, Сизов стал не отвечать, а будто наотмашь хлестать лейтенанта, не давая опомниться ни ему, ни себе.
– Ты меня не прерывай, ты выслушай, тебе говорят, а ты слушай, падалью кормишь, а как выслушать, так у тебя уши вянут, ты меня не пугай, я тебя…
Лейтенант натянулся струной. Он стал тоньше. Он был ошеломлен. Гнев застрял в его горле. Потом, издав яростный клекот, поворотился и был таков.
Сизов дрожал, судорожно сжимая и разжимая кулаки. В висках у него стучало. Предательская вялость текла по мышцам. И так же вяло подумалось: «Никчемная работенка…»
Он не понимал, не знал, что делать. И каторжане тоже. Смущенные, озадаченные, испуганные, они разбредались в свои углы, на свои нары, по своим закуткам, словно бы стараясь упрятаться от всех и от самих себя тоже. Никто не подошел к Сизову, не ободрил, не сказал ни слова.
Нил еще не унял дрожь, еще не успокоился, когда по трапу загрохотали сапоги и приклады. Толсторожий боцман, зажав в кулаке дудку, размахивал цепочкой.
– Живо… твою мать! Шевелись: линьки скучают!
Конвойные тесно и крепко взяли Сизова. Каторжане оставались где были, но какое-то движение ощутилось в трюме, и Сизов уловил это дружественное, безмолвное движение, а потом услышал: «Наградные получишь – стерпи за обчество…»
«Получить наградные» означало получить розги. Но толсторожий сулил какие-то «линьки». Сизов не знал этого орудия судовых истязаний; ему вообразились не треххвостные плети, а – по созвучью – линейки. «Линейками лупить будут, как в школе», – подумал Сизов.
На палубе Нил зажмурился, грудь его до боли расперло воздухом. Он потянул носом. Пахло, как в колониальной лавке на Тверской, куда посылала мать за чаем, а в канун больших праздников – за изюмом… Он перестал жмуриться, увидел ясное струение над ясной волною, над зеленым берегом. В этой ясности, поразив Сизова четкостью, были корабли, длинный мол, высокий маяк, набережная, сады, дома. Нил улыбнулся: ради такой минуты стоило «получить наградные».
Много ль увидел Сизов, привставая на цыпочках, он не определил: толчок в загорбок, пинок в зад – тьма кромешная. Одиночка? Карцер? Ну, где наша не пропадала, не привыкать стать… И, как всякий бывалый арестант, Сизов принялся шарить вокруг: куда угораздило и как тут примоститься.
Темница была узенькая, неправильной формы, наверное, втиснутая промеж каких-нибудь судовых надстроек, затылок потолка касался, на полу не вытянешься. Ошариваясь с тем интересом, какой возникает у заключенного даже в карцерах, Сизов не тотчас почувствовал чудовищную температуру своей «кельи». А было тут жарче, чем в сушильных камерах фабрики Гюбнера, где когда-то он задыхался, беспаспортный и бездомный слесарь-москвич.
Из сушилок-то еще можно было скакнуть к кадушке с ледяной звонкой водою. А карцер задраили наглухо. И вскоре уж Нил погрузился в булькающее, кипящее как масло забытье.
Ни тогда, в карцере, ни потом, в трюме, Сизов не помнил, как матросы раз в сутки давали ему кружку воды и сухарь. Не помнил, пил ли, ел ли… Не помнил, как фельдшер испугался: «Что, худо?..» И как белоснежный пенитель морей выставил свой диагноз: «Они, стервы, двужильные…» Ничего Сизов не помнил, не сознавал, а будто все время плавал в огромном чану с кипящим, булькающим, рыжим, огненным маслом.
Когда Сизова снесли в трюм, боцман сказал, чтоб все слыхали: «Мотрите, он того-о…» – и покрутил корявым пальцем около виска. Это ему, боцману, так господин старший офицер приказали: сумасшедших ведь чураются, как заразных.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: