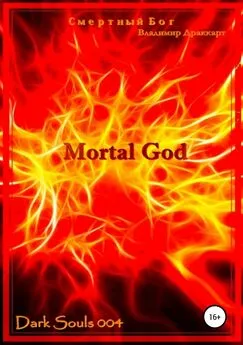Владимир Михайлов - В свой смертный час
- Название:В свой смертный час
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Михайлов - В свой смертный час краткое содержание
В свой смертный час - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Лариса Павловна продолжает свой рассказ, но я больше не слышу ее. Перед моим мысленным взором возникает блеклое, лишенное даже губной помады, женское лицо, тонкие красивые пальцы с ненакрашенными ногтями, и я ошеломленно думаю: «Неужели эта одинокая женщина отказывается до сих пор от косметики и маникюра только потому, что это не понравилось бы человеку, жизнь которого оборвалась так много лет назад?»
14 МАРТА 1945 ГОДА
Обед
— Случайностей не бывает. Какие могут быть случайности?
— Нет. Это нет. Марксизм случайности признает.
— Опять ты в философию ударился. Я не о марксизме, а про жизнь говорю.
— Марксизм охватывает жизнь. А случайности он признает.
— Конечно, марксизм охватывает жизнь. Что, я не знаю про марксизм, что ли? Марксизм не догма, а руководство к действию и так далее… А в жизни все просто происходит. Что заслужил, то получи. И каждый находится на своем месте…
— Оно, конечно, так. Хотя черт его знает. Я когда в госпитале лежал, у нас в палате радио было. И каждый день радио одну песню играло — знаешь? «Смелого пуля боится, смелого штык не берет…» А тут, понимаешь, раненые лежат, контуженые… Один у нас лежал без ноги, он в радио костылем запускал, когда оно пело «Смелого пуля боится…». Выходит, мы все от трусости в госпиталь попали?
Андриевский никогда не думал об этой песне. Петь — пел иногда. Но редко. Она ему не очень нравилась, но не вызывала никаких размышлений. Раз в песне сказано, — значит, наверно, так и есть. Ну, может, и не совсем так. Бывает, все бывает. Убивают и смелых ребят. Но все-таки… Вот он, например, из оврага выскочил. Жив. Здоров. Можно бы и об этом с Ванькой поспорить. С ним интересно спорить. Но не стоит. Ванька лежал в госпитале. Неловко…
— Давай, Ваня, лучше чекалдыкнем…
— Чекалдыкнуть можно, — нехотя сказал Ларкин. — Однако ты не обижайся, а нет в тебе логического мышления. Парень умный — ничего не скажешь. А логического нет. Думать не хочешь головой. Никаких общих мыслей у тебя нету.
— У меня есть мысли.
— Ну назови. Я послушаю.
— Давай чекалдыкнем. Это разве не мысль?
Андриевский засмеялся и протянул голую руку к трем разномастным бутылкам, которые стояли посредине большого письменного стола рядом с двухкилограммовой жестяной банкой португальских сардин и другой банкой — круглой, стеклянной — с немецкой домашней консервированной курицей.
Он сидел в кресле директора черепичного завода, который они только что заняли, и был гол по пояс. Одежда всегда мешала этому молодому, сильному, красивому телу. Борис при первой возможности сбрасывал ее с себя, и, когда ничто не стесняло его движений, ничто не отгораживало тело от воздуха, он испытывал наслаждение.
На краю стола, под рукой лежала его гимнастерка. Его влажные после недавнего умывания волосы отливали легкой рыжиной. Смугловатая кожа на груди, на руках, на шее была крепкая, эластичная. Без одежды было видно, какие у него широкие прямые плечи, какой он весь сильный, мускулистый. Но мышцы не поднимались узловатыми буграми. Они прятались под гладкой, ровной кожей и только при движении мягко и отчетливо проступали сквозь нее.
— Прочитай, Ванюха, что на этой написано, — попросил Андриевский, протягивая Ларкину высокую бутылку.
Тот сидел в мягком, голубом кресле, предназначенном, как видно, для посетителей по другую сторону стола.
— Это не по-немецки написано, — сказал он, рассматривая этикетку. — Чешский, что ли. Или болгарский…
— Открывай, — сказал Борис. — Попробуем болгарский. А то этот шнапс тягомотный очень. И сладкий…
Они уже выпили по полкружки тягучего, канареечно-желтого яичного ликера.
Открыть без штопора болгарское вино Ларкину не удалось, и он просто отбил горлышко о край письменного стола. Из бутылки в кружки полилась светлая, почти прозрачная жидкость.
Андриевский выпил.
— Кислятина, — сказал он и скорее полез ложкой в здоровенную банку с сардинами, подцепил их как кашу и отправил в рот.
— Тебе не угодишь, — сказал Ларкин, медленно потягивая вино. — То сладкое, то кислое… Разборчивым стал.
— Эта водичка не подходит для спасителей Европы, — сказал Борис и еще раз подцепил полную ложку сардин. — Погляди, что в третьей бутылке.
— Рум, — прочитал Ларкин. — Маде ин Аустрия.
— Ром? — радостно спросил Борис. — Давно я хотел попробовать ром. С детства. Во всех книжках пираты ром пили. Я думал, теперь рома вообще не бывает. Тебе, Ванька, не чудно, что мы с тобой в этой комнате сидим и будем ром пить?
Он посмотрел вокруг себя и засмеялся.
Все было странным и чужим. В окна директорского кабинета било веселое весеннее солнце, но и оно казалось чужим оттого, что, ложась на темные стены, полы, шкафы, кресла, тускнело, успокаивалось, теряло силу. Поблескивали только бронзовые завитушки на тяжелой солидной мебели, фарфоровые тарелки, развешанные на стенах, да глянцевые изразцы на невысокой, нахально вступавшей в комнату квадратной печи…
Здравствуй, Таня! Ты, наверное, решила, что я уже сыграл в ящик. Ан нет! Не писал четырнадцать дней, так как все время не вылезал из железки. Вернее, из железок, пока они не загорались. Вертелся, как белка в колесе: наступал, тикал, убивал, горел. Все кончилось благополучно, хотя досталось трудновато. Вот и сейчас хотя уже не стреляют, но темно и идет сильный дождь со снегом.
Получил звание старшего лейтенанта, ордена и медали. А пока сижу и дрожу: русский человек не привык к иностранной осени. Лежу в пробитом снарядом сарае на конском навозе и мечтаю. Конечно, нехорошо не писать любимому человеку по две недели. Каюсь. Но пойми: коробка, дождь, мины, снаряды, и внутри твой Борис с конвертом и бумагой. Потом конверты, бумага и карандаш сгорели. Что я мог делать? По-моему, только одно: с твоим образом идти вперед в атаку. Смею сообщить, что пришлось вырвать с десяток седых волос: результат боев за Прибалтику… Вот и сейчас: ночь, коптилка, шум мотора в небе — везут «сухие пайки», не дай бог, на мою голову. Хочется спать, но у меня карандаш, бумага, и я пишу. Ты, наверно, спишь, а я пишу. Может быть, тебе стало немножко стыдно, что ты редко пишешь? Или, может быть, лирически выражаясь, в твоем сердце ярким пламенем вспыхнул огонь любви?
Ты беспокоишься, что я на войне огрубел, как пишешь, «очерствел душой». Эх, Татьяна Николаевна, что вы знаете о войне? Насчет «черствости души» все наоборот происходит у меня! Это раньше мне, дураку молодому, море по колено было: на то война, думал, что здесь убивают. Так положено. А теперь стариком, что ли, становлюсь или, может, понял теперь, каким должен быть настоящий командир, от которого зависит жизнь людей, но теперь каждая смерть меня как ножом по сердцу. Ты знаешь, я еще на гражданке за друга последние портки бы отдал. А на фронте такие дружки, каких нигде больше не бывает: каждый за тебя жизнь отдаст. Живем с ребятами из экипажа в железной коробке, тесно, вместе, без слов друг друга понимаешь, когда начальство хоть одного из экипажа забрать захочет — споришь до хрипоты, чтоб не брали. А со снарядом, с пулей не поспоришь — сколько у меня в экипаже людей сменилось! На войне от жалости надо не сопли распускать, а воевать умело, с расчетом, чтобы задачу выполнить и людей уберечь. Вот в чем суть! И если уж на то пошло, я тебе так скажу: война страшна не только тем, что здесь твоих товарищей убивают, тебя самого убить норовят — война страшна и тем, что и ты других убиваешь, каждый день. Мы же не убийцы! Мы — люди! Думаешь легко каждый день убивать? Только ничего этого показывать здесь не положено ни другим, ни себе. Воевать надо! Ну прости, что я чего-то вдруг в откровенности пустился: от усталости ослаб, наверно. Тебе про все это знать ни к чему.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
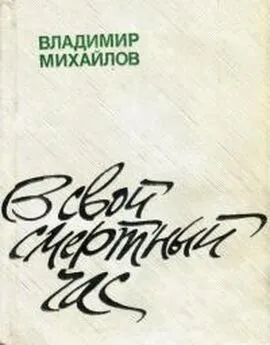



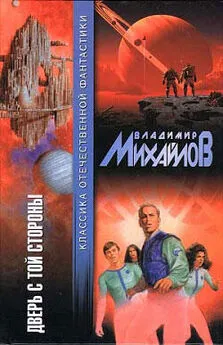
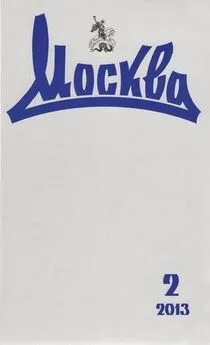
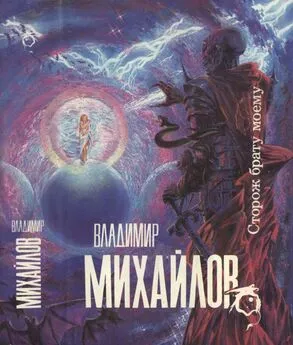

![Владимир Упоров - Смертный Бог [СИ]](/books/1079434/vladimir-uporov-smertnyj-bog-si.webp)