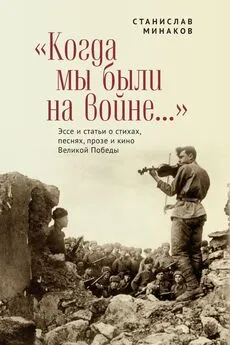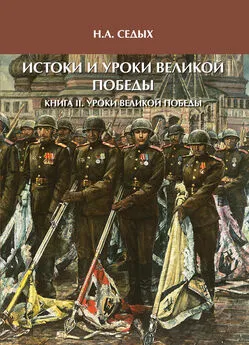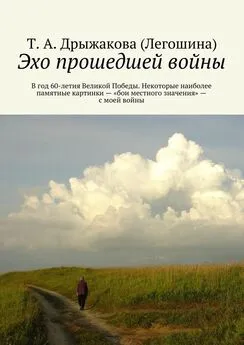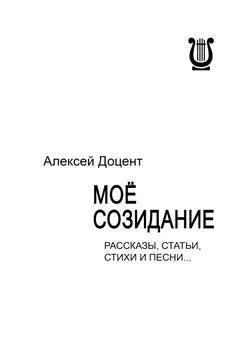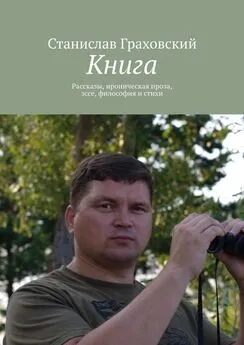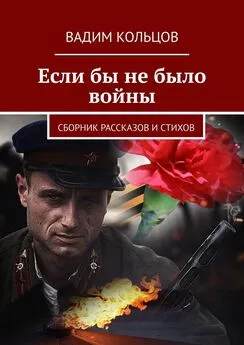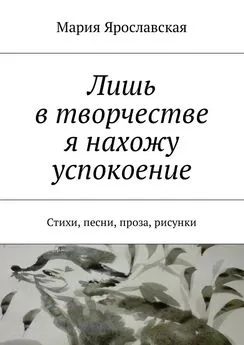Станислав Минаков - «Когда мы были на войне…» Эссе и статьи о стихах, песнях, прозе и кино Великой Победы
- Название:«Когда мы были на войне…» Эссе и статьи о стихах, песнях, прозе и кино Великой Победы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-907189-87-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Станислав Минаков - «Когда мы были на войне…» Эссе и статьи о стихах, песнях, прозе и кино Великой Победы краткое содержание
«Когда мы были на войне…» Эссе и статьи о стихах, песнях, прозе и кино Великой Победы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Поблагодарим литературоведа Р. Тименчика, приведшего запись П. Н. Лукницкого об Ахматовой, от 9 июля 1926 г.: «АА сегодня, читая Державина, “нашла” превосходное, великолепное стихотворение (очень ей понравилось и – между прочим – ритм) Суворову». У Тименчика читаем и о «признании Ахматовой, написавшей на дарёной своей книге: она, дескать, всегда слышит стихи Липкина, а однажды плакала».
Державин поражает и тем, что в песне прекрасной птицы, так сказать, зимнего певца, которая могла бы отзываться в сердце приветом жизни, слышит не что иное, как «песню военну!» То есть свист снегиря напоминает ему флейту, выводящую походный марш! И с первой же строки звучит восклицание-упрек-сожаление: «Что ты заводишь песню военну!»
Снегирь у Державина поёт как флейта.
У Бродского – антидержавинская инверсия в последней строке, где дан императив флейте – свистеть на манер снегиря.
Державин сокрушается, что нет повода птичке вздымать в горькой человечьей памяти этими звуками отклик о былой славе имперского войска.
У Бродского – призыв к одическому звучанию инструментов, фактически к прославлению почившего полководца (подозрения в сарказме отвергаем). Хотя, пожалуй, это можно бы и прочесть как призыв к военной флейте сменить характер звука: перейти на птичью, то есть, по-видимому, мирную песнь, природно свойственную «птичке Божией». Да, слава. Но и уже – «конец концов» войны, когда умирает последний заглавный её олицетворитель, полководец.
И – снова о строках Липкина.
Почему же нельзя плакать? Да потому что мы ведь победили! Но чтобы не заплакать – «думать не надо». Ибо подумавши – непременно заплачешь. Отсюда и короткие, словно в попытке сбить предрыдательное дыхание, самовнушительно-директивные фразы из двух слов: «мы победили», «в лагере пусто», «печи остыли», «думать не надо», «плакать нельзя». Дважды повторив в первой строфе «плакать нельзя», во второй автор (лирический герой) говорит: «А до парада плакать нельзя». Потрясающе. То есть дело победы ещё не завершено. А плакать можно будет лишь на параде и после! («…Плакать без слёз может сердце одно!» – поётся в «Тум-балалайке».)
Рифмы у Липкина просты. «Вагона – патефона», «остыли – победили». Апофеозом этого принципа рифмовки является пара «хаты – солдаты»; не случайно вспомнится тут рифма «хату – солдату» из шедевра Исаковского «Враги сожгли родную хату».
Быть может, Семён Липкин ставит исторически-цивилизационную точку в перекличке троих, затворяет триптих. И смысловую точку – запредельной темой геноцида, массовых уничтожений в лагерях смерти («чёрные печи да мыловарни»). И стилистическую. Несомненны обаятельное величие как державинского «спотыкача» («Слышен отвсюду томный вой лир…»), так и глубокое косноязычие Бродского («Ветер сюда не доносит мне звуков…» или «…стены, хоть меч был вражьих тупей»), однако сочинение Липкина представляется более совершенным в версификационном смысле. Надо при этом признать, что ему было и легче профессионально. Во всяком случае, легче, чем Гавриле Романычу; как-никак Липкину споспешествовали два века русской поэзии; такого грандиозного литературного опыта у Державина не было. Отсюда державинское косноязычие: сбивчивые односложные слова в конце строки, и рифмовка – тот же «вой лир» слабо аукается со «Снигирь», и вовсе никудышной представляется рифма «лежат – побеждать». Быть может, отсылаясь к державинскому «Снигирю», Бродский нарочито не избегнул высокого косноязычия, так же сталкивая односложники: « хоть меч был вражьих тупей».
И это Бродский, уже в Америке, заметил, что Липкин пишет «не на злобу дня, но – на ужас дня».
«Последняя точка» Липкина ещё и в том, что у него одинокая скорбь балалайки становится своеобразной антитезой общему пафосу военной флейты.
Захлопывается ли Липкиным рассматриваемая нами чёрная дыра?
II
Сосредоточившись на вышеприведённом триптихе, вдруг начинаешь под таким же углом зрения обращать внимание и на сочинения иные.
Например, на стихотворения новых времён, условно говоря, периода холодной войны (кое-кто называет её Третьей мировой, проигранной Советским Союзом).
Давид Самойлов стихотворение 1966 года «Смерть поэта», написанное на кончину Ахматовой, предпослав ему эпиграфом две первые державинские строки из «Снигиря», заканчивает такими строками:
Ведь она за своё воплощенье
В снегиря царскосельского сада
Десять раз заплатила сполна.
Ведь за это пройти было надо
Все ступени рая и ада,
Чтоб себя превратить в певуна.
Всё на свете рождается в муке –
И деревья, и птицы, и звуки.
И Кавказ. И Урал. И Сибирь.
И поэта смежаются веки.
И ещё не очнулся на ветке
Зоревой царскосельский снегирь.
Обратим внимание на употреблённое Самойловым слово «Кавказ». А, казалось бы, в те годы оно никак не должно было увязываться с милитаристической темой – разве что в историческом контексте. И, как полагал автор, «зоревой царскосельский снегирь» ещё не очнулся.
Эти же державинские строки взял в качестве одного из эпиграфов и Владимир Сидоров к своей маленькой лирической поэме «Снегирь», датированной «1 февр. 1968 – 8 янв. 1969».
Приведём несколько цитат из неё; здесь весьма значительны не только державинские аллюзии, но и предвосхищается «барабан», который мы обнаружили спустя пятилетие у Бродского.
Передо мной поспешные заметки
По поводу. Товарища дневник.
Его Державин. Снег за воротник.
На сердце снег. Два снегиря на ветке.
О как мы любим, идучи на рать,
Играть в огромный барабан гражданства!
Прощай, зима – военная свирель!
Ты слышишь эту радостную трель? –
Всё. Соловьи сменили снегирей!
То есть к финалу поэмки появляются чуть ли не фатьяновские соловьи. (Помним песню Василия Соловьёва-Седого на стихи Алексея Фатьянова: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат! Пусть солдаты немного поспят». Стихи написаны в 1942-м, музыка в 1944-м.)
Фронтовик Михаил Дудин написал стихотворение «Снегири», которое стало песнями Е. Жарковского (1976) и Ю. Антонова (1984). Здесь контекст и трагичен, и ностальгичен, трогателен и пронзителен. Красногрудые русские птицы – в каждой строфе:
Это память опять, от зари до зари,
Беспокойно листает страницы,
И мне снятся всю ночь на снегу снегири,
В белом инее, красные птицы.
Белый полдень стоит над Вороньей горой,
Где оглохла зима от обстрела,
Где на рваную землю, на снег голубой,
Снегириная стая слетела.
От переднего края раскаты гремят,
«Похоронки» доходят до тыла.
Под Вороньей горою погибших солдат
Снегириная стая накрыла.
Интервал:
Закладка: