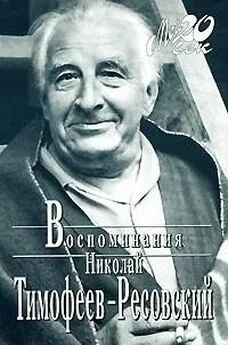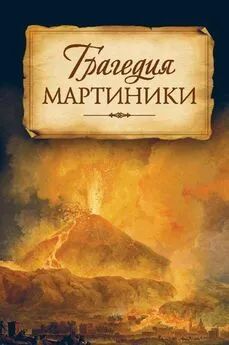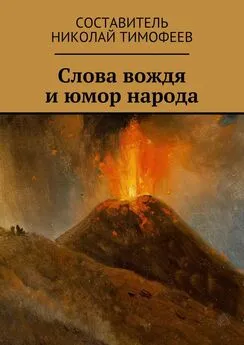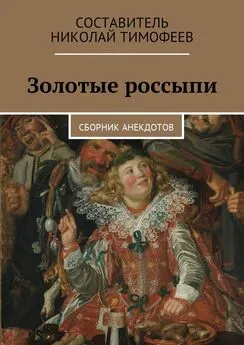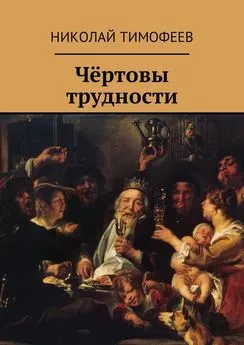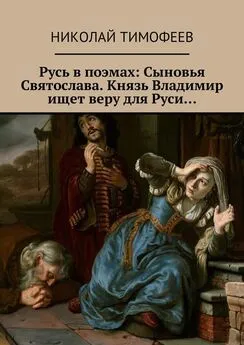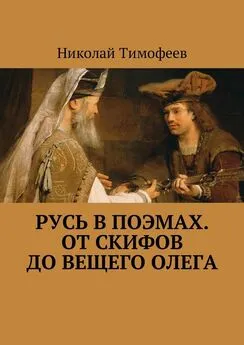Николай Тимофеев - Трагедия казачества. Война и судьбы-4
- Название:Трагедия казачества. Война и судьбы-4
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Невинномысск
- Год:2003
- Город:Невинномысск
- ISBN:5-89571-046-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Тимофеев - Трагедия казачества. Война и судьбы-4 краткое содержание
Разгром казачества был завершен английскими и американскими «демократами» насильственной выдачей казаков в руки сталинско-бериевских палачей, которым досталась «легкая» работа по уничтожению своих противников в застенках и превращению их в «лагерную пыль» в ГУЛАГе. Составители и издатели сборников «Война и судьбы» сделали попытку хотя бы отчасти рассказать об этой казачьей трагедии, публикуя воспоминания участников тех событий.
По сути своей, эта серия сборников является как бы дополнением и продолжением исследовательской работы генерал-майора, атамана Кубанского Войска В.Г. Науменко, имеющей непреходящее значение.
Составитель: Н.С.Тимофеев.
Трагедия казачества. Война и судьбы-4 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я отрапортовал коменданту, что канцелярия лагеря в полном составе и готова к исполнению своих обязанностей. Есаул Паначевный похвалил меня за расторопность и сметку. И было за что! Только недели через три из немецкого военного центра снабжения пришло уведомление, что нам полагается получить предметы канцелярского оборудования — столы, и пишущие машинки с письменными принадлежностями. А мы уже работали полным ходом.
Так в чине ефрейтора я оказался делопроизводителем нашего лагеря, т. е. по существу в функции хаупт-фельдфебеля Брюсова, который по указанию майора Амлинга составил полученный мною при переходе к казакам пакет. Конечно, мое прежнее немецкое начальство не допускало и мысли, что я, уйдя от них, займу когда-либо должность «шписа», т. е., по-немецки, старшего писаря. Это стало мне ясно, когда есаул Паначевный подошел к столу, за которым я двумя пальцами отстукивал на машинке для «пробы пера» какую-то цидулю, и положил на стол прочитанный им пакет. «Оставьте это у себя», — сказал он мне.
Я вынул из него мое личное дело и внимательно прочел его. Это был любопытный документ. Правильными в нем были только мои личные данные: имя, фамилия, место и год рождения, и мой чин. Но сам послужной список не отражал полностью этапы моей двухлетней службы. Указывалось, что свои обязанности я исполнял хорошо. Но ни слова о моих поездках в партизанские районы в составе автоколонн нашего полка, что относилось к боевым заданиям. Вместо этого характер моей деятельности был обозначен нелепым для солдатского распорядка жизни словом — «трудслужба» (Arbeitsdienst), что в общем соответствовало лишь моим занятиям в Берлине.
Затем следовали практические рекомендации: в высшие звания не производить, к наградам не представлять. И, наконец, заключительный вывод: «Здоровое мировоззрение. Подлежит надзору».
Итак, мое бунтарство не сошло мне с рук. Я мог представить себе, что ожидало меня, если бы я остался в 4-й роте, куда меня перевели из штаба, или попал в другую немецкую часть. Но здесь, в казачестве, преобладал иной подход в оценке личных качеств и лояльности бойца. Об этом свидетельствовал сам факт, что мой командир, есаул Паначевный, возвратил мне пакет, содержание которого мне не полагалось знать.
Вместе с тем ознакомление с моим личным делом вызвало у меня чувство удовлетворения. Своим заключением майор Амлинг молчаливо признавал моральную правоту моего протеста. Ведь он-то вытекал из моего «здорового мировоззрения».
Тем не менее, я нуждался в надзоре, ибо в глазах моего немецкого начальства суть дела заключалась не в моей правоте или неправоте, а в том, что я нарушал установленный порядок. А порядок, хороший или плохой, должен быть (Ordnung muss sein).
По существу это был первый серьезный (увы, не последний) конфликт в моей жизни между русским представлением должного нравственного миропорядка — «правды» — и позитивистическим правосознанием современной западной цивилизации в ее тогдашнем немецком варианте, базирующемся не на основоположных объективных нравственных принципах, а исходящим из правотворящей воли государства. Оно может быть монархией или республикой, диктатурой или парламентарной демократией. Но во всех вариантах политические институты власти утверждают себя источником права как совокупности действующих в обществе юридических норм.
При этом, однако, обходится молчанием то обстоятельство, что как раз идея «неотторжимых прав человека», о которых трубят журналисты и политики, не юридического, а морального происхождения. При этом морали, вытекающей из положений религиозной этики. Это однозначно признает основоположный документ северо-американской республики «Декларация независимости» в преамбуле — «Все люди сотворены равными. Они наделены Творцом неотторжимыми правами…» С современной юридической точки зрения позитивистической законности «Декларация независимости» — неконституционна.
Это, однако, я осознал шестью годами позже, когда в Зальцбургском Философском институте я погрузился в проблемы философии истории и философии права и понял на всю жизнь, что мне нечего стыдиться тысячелетней культуры моей страны с ее традиционной системой духовных и общественных ценностей и с ее специфическим «не рыночным» подходом к решению проблем национального бытия. На основе личного опыта я убедился, что варварство и дикость отнюдь не монополия пресловутого «русского мужика», по мнению бойких журналистов, виновного вместе с русскими «царями» во всех бедах русской истории. Увы, дикость и варварство широко представлены в жизни так называемых цивилизованных стран.
Между тем от внимания моего прежнего немецкого начальства не ускользнуло, что «порядок» был нарушен, и их авторитетные рекомендации не были приняты к исполнению. В этом, впрочем, был виноват я сам. В мое первое и последнее посещение прежнего места службы я расхвастался (меня так и подмывало высунуть язык) моим новым положением. Слушатели были поражены моим успехом, а Вернер Липковский, может быть, желая заставить меня проговориться, заметил: «Твое повышение понятно. Мы ведь дали тебе самую лучшую рекомендацию». Я благоразумно воздержался от комментариев. Мой рассказ произвел впечатление и на русских, и моему примеру последовал Алешка Медведев. Родом из Воронежа, он «приписал» себя к ст. Мигулинской и вскоре тоже очутился в нашем лагере. Его рекомендации в его пакете были много лучше моих, и вскоре он был проведен немецкими инстанциями по штату в казаки-вербовщики. Что же касается немцев, то вывод напрашивался сам собой: вероятно, я или утаил пакет на новом месте или же казачьи командиры проявили недопустимую самостоятельность.
Ни того, ни другого нельзя было позволить (это было бы еще большим нарушением должного «порядка»), и мое бывшее немецкое начальство, очевидно, переслало копию моего личного дела в соответствующие инстанции, которым был поручен административный контроль над добровольческими формированиями. Но об этом речь пойдет ниже. Теперь же возвратимся в казачий этапный лагерь.
Итак, комендант нашего лагеря был есаул Паначевный, эмигрант из Франции. Собственно, он был первый русский эмигрант, с которым я познакомился ближе после моего ухода на Запад в 1943 году. По профессии он был ученый-ботаник. Еще до революции он вырастил в Новороссийске первую в России викторию-регию. На Кубани его фамилия пользовалась известностью. Он был потомок древнего запорожского рода. Один из его предков в XVI или XVII в. заведовал боевыми челнами на Запорожской Сечи. Отсюда фамилия — «Пан човный». Этому предку было даровано польское дворянство. На гербовом щите был изображен казак, стоявший посредине похожей на серп полумесяца лодки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: