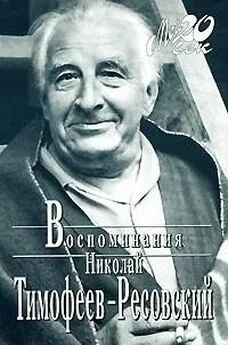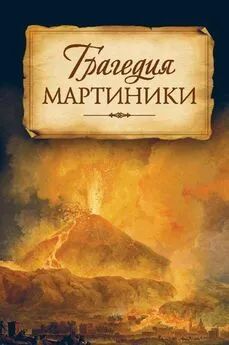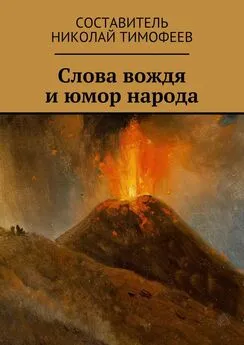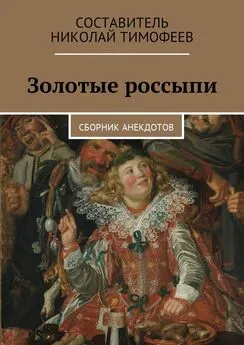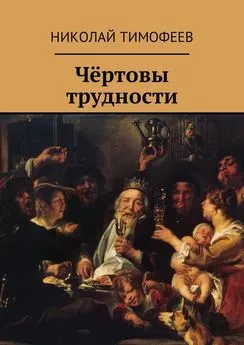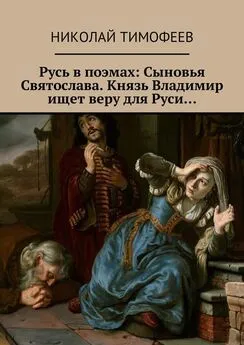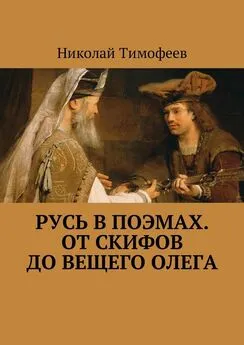Николай Тимофеев - Трагедия казачества. Война и судьбы-4
- Название:Трагедия казачества. Война и судьбы-4
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Невинномысск
- Год:2003
- Город:Невинномысск
- ISBN:5-89571-046-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Тимофеев - Трагедия казачества. Война и судьбы-4 краткое содержание
Разгром казачества был завершен английскими и американскими «демократами» насильственной выдачей казаков в руки сталинско-бериевских палачей, которым досталась «легкая» работа по уничтожению своих противников в застенках и превращению их в «лагерную пыль» в ГУЛАГе. Составители и издатели сборников «Война и судьбы» сделали попытку хотя бы отчасти рассказать об этой казачьей трагедии, публикуя воспоминания участников тех событий.
По сути своей, эта серия сборников является как бы дополнением и продолжением исследовательской работы генерал-майора, атамана Кубанского Войска В.Г. Науменко, имеющей непреходящее значение.
Составитель: Н.С.Тимофеев.
Трагедия казачества. Война и судьбы-4 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я приучил себя уделять до трех и четырех часов на решение трудных математических задач. В результате я взял упорством и усидчивостью там, где не мог взять математической сметкой. Начиная с восьмого класса до окончания десятилетки, я неизменно получал «4+», был признан хорошим математиком, мне даже поручали помогать слабым в математике одноклассникам.
Бином Ньютона завершал курс алгебры в десятом классе. В немецких и австрийских гимназиях курс по математике включал введение в интегральное и дифференциальное исчисление. В остальном, как я убедился позже, программа образования и подготовка учеников в средних школах у нас не уступала гимназическому уровню в европейских странах.
И вот теперь экзаменатор задал мне вопрос об этом самом биноме Ньютона. Я задумался, напряг память и… вывел формулу. Больше вопросов мне не задавали, оба экзаменатора поставили таинственный для меня балл «12» и отпустили меня с миром.
Не теряя времени, я направил свои стопы к вилле, которую занимал в Вилле Сантине генерал М.К. Соломахин. Начальник училища принял меня сердечно, осведомился о моем самочувствии и о моих первых впечатлениях об училище. Я вручил ему письмо полковника Иноземцева. Генерал прочитал его. Спросил, какую отметку я получил на экзаменах. «Двенадцать», — ответил я и метнул взгляд на лицо генерала, пытаясь разгадать его реакцию. Лицо Начальника училища осталось, однако невозмутимым, а я не решился спросить его, что означает этот балл.
После минуты молчания генерал Соломахин объявил свое решение: «Определяю вас юнкером в артиллерийскую полубатарею. Ее командир — полковник Полухин. Идите и оформляйтесь. Поздравляю вас с приемом в 1-е Казачье Юнкерское Училище!»
В этот же день я, наконец, узнал, что в училище пользуются двенадцатибалльной системой, принятой в русских военных учебных заведениях до революции. «12» — высший балл и свыше полутора десятка юнкеров получили его. Как же мне повезло, что на экзаменах меня не подвела память.
Пожалуйста, не спрашивайте меня сегодня, что такое бином Ньютона и с чем его едят! Но ведь тогда мне был неполный 21 год! Сейчас я временами забываю имена моих многолетних коллег.
В каком порядке и сколько времени заняло мое оформление, я не могу припомнить. Также не помню, когда мне выдали мое юнкерское обмундирование. Присылалось оно к нам из итальянского военного склада, перешедшего в распоряжение немцев. С обмундированием и вышла загвоздка и ее причиной оказался мой «богатырский вид», которым мама похвасталась в разговоре с донским сотником в штабе Походного атамана в Толмеццо. На итальянском складе не нашлось мундиров и штанов на мой рост. Немногочисленное обмундирование больших размеров было уже распределено среди юнкеров. Нашли для меня только высокие кавалерийские сапоги со шпорами. Дополнительно из немецкого склада я получил зеленую шапку горных стрелков с козырьком (Bergmutze), а из казачьих запасов — синюю юнкерскую бескозырку с красным околышем и русской кокардой. В остальном мне пришлось сохранить мою прежнюю форму солдата Военно-воздушных Сил. Признаюсь, в строю вид у меня был несколько странный.
В тот же первый день адъютант училища подъесаул Полушкин внес меня с чином урядника в список юнкеров училища и отправил встать на учет в полубатарее.
Артиллерийская полубатарея вместе с инженерным взводом занимала большой темноватой покраски дом, принадлежавший местному купцу. Судя по расположению комнат в коридоре, в мирное время в нем могли быть сосредоточены торговые конторы. Дом стоял напротив здания школы, в которой были расквартированы две сотни училища. Таким образом, в случае необходимости наши действия могли быть легко координированы. Мы составляли один боевой кулак.
Вход в дом был не с улицы, а с внутреннего двора. Непосредственно у входной двери начинались комнаты юнкеров инженерного взвода. Командовал взводом сотник H.H. Краснов, сын инспектора училища полковника H.H. Краснова и племянник генерала П.Н. Краснова.
Молодой Краснов воевал в рядах германских войск, оперировавших на Восточном фронте, был награжден медалью за восточный поход 1941-42 гг.
Курсовым офицером был хорунжий Сережников, эмигрант из Франции. Оба выросли и были воспитаны в эмиграции.
Коридор пересекал зал с окнами, выходившими как на главную улицу, так и во внутренний двор. Из окон на улицу открывался вид на церковь и школу, в которой обосновались наши товарищи из сотен. В углу зала, направив стволы в коридор, стояло несколько пулеметов. Один — с ощеренным рылом, неизвестной мне системы. Как мне разъяснили, это был пулемет системы Люиса. Наше вооружение было трофейного происхождения.
Одновременно зал исполнял и другую, «карательную», функцию. В угол рядом с пулеметами, любимец юнкеров и сам по-отечески любивший их заместитель начальника училища, полковник А.И. Медынский ставил «под винтовку» на час или два провинившихся в тех или иных проступках юнкеров.
Вообще, полковник Медынский имел обыкновение появляться, когда его совсем не ожидали. Его любимый оборот речи, при распекании попавших в просак юнкеров, был: «Медынский под землю на три аршина видит!»
Стоять с карабином, хотя бы и легким (четырехзарядные французские карабины были на вооружении училища), на плече час или два было совсем не пустяшное дело.
Недели через две после моего поступления в училище попал в переделку и я. Как-то после вечерней поверки и ужина я и Саша Фомин решили заняться в коридоре имитацией штыкового боя без штыков. После нескольких выпадов и мощных ударов стволом по стволу во мне заговорил голос благоразумия, и я предупредил моего «доблестного» противника: «Давай кончать, Саша, а то ведь можем сбить мушки». И в этот самый миг над моим плечом прогремел знакомый грозный голос: «Прекратить безобразие!»
Мы застыли «смирно» перед полковником Медынским. Не входя в распекание, он посмотрел на меня и коротко бросил: «Два часа под винтовку!» На Сашу он не обратил внимания. Круто повернулся и ушел.
Наказание все же миновало меня. В нашу комнату заглянул хорунжий, курсовой офицер полубатареи (фамилию его я не запомнил). В Красной Армии он был лейтенантом. До перевода в училище служил в 1-м конном полку Казачьего Стана. Лукаво ухмыльнувшись и подмигнув, сообщил: «Полковник Медынский распорядился: «Скажите этому авиатору, что под винтовкой он может не стоять». Слава Богу, пронесло!
Но будущее, даже самое близкое, большей частью скрыто от нас, и в этот первый день моего юнкерского бытия меня ожидали иные значительные открытия. Первым делом меня определили в комнату, в которой обосновались три юнкера-артиллериста: донцы Вячеслав Пилипенко и Саша Фомин, и астраханец Баранников, сын того самого казака, который привез меня в Виллу Сантину.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: