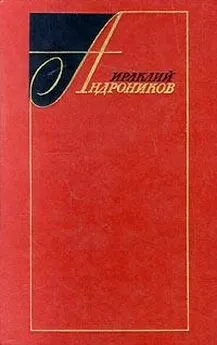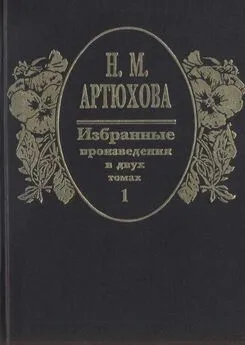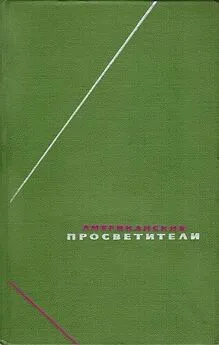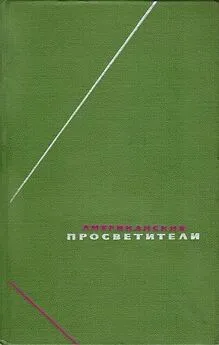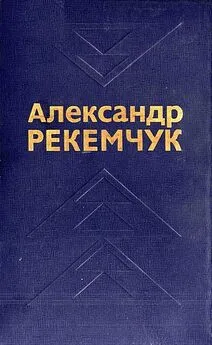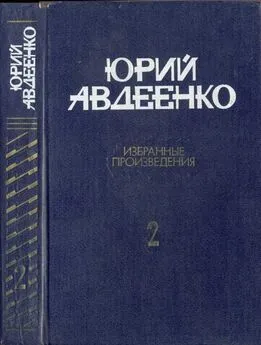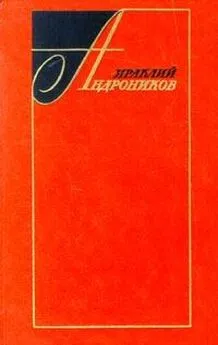Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]
- Название:Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы] краткое содержание
Имя Дмитрия Михайловича Холендро, автора многочисленных повестей и рассказов, хорошо известно советскому и зарубежному читателю.
В первый том включены произведения о Великой Отечественной воине, дорогами которой прошел наводчик орудия младший сержант Дмитрий Холендро, впоследствии фронтовой корреспондент армейской газеты. Это повести «Яблоки сорок первого года» (по которой снят одноименный фильм), «Пушка», «Плавни» и рассказы «Вечер любви», «За подвигом» и др. Все они посвящены мужеству советского солдата, всю Европу заслонившего своею грудью от немецкого фашизма, ежедневно на войне решавшего проблему выбора между правом жить и долгом пожертвовать своею жизнью ради спасения Родины.
Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Трудно, конечно, было Лушину смотреть, как другой нормальный человек размахивает своими длинными руками, дирижируя увертюрой нарождающегося дня.
— Право слово, псих.
— Крещендо!
— Картоха остынет.
— Где моя картоха?
— Не подавись.
Они сидели на траве, там, где мы провели ночь, и Лушин испек картошку в серых от пепла углях маленького костра, разведенного на заре из соломы и обломков сухих веток. И было вокруг птичье верещанье, была степь, и прозрачные тени деревьев встряхивались от ветра. Где это было?
— Ох, мировая картоха! И ты мировой мужик, Лушин! Маэстро!
— Не обзывайся.
— После войны мы с тобой обязательно напечем много-много картошки…
— Не загадывай.
— Еще скажи — не дыши. Жмот!
— А ты знаешь, Эдька, почему Лушин не ставил на стол своих посылок?
— Не знаю.
— В них были одни сухари. Поэтому он не садился с нами. Стеснялся.
— Не знаю.
— Прятал их и скармливал коням.
Лушин и Сапрыкин поднесли Эдьку к яме, в которой я стоял по пояс. Карабин с трудом выдрали из его пальцев с неостриженными синеющими ногтями, под которые набилась грязь. Изо рта Эдьки торчали травинки, закушенные от боли, когда он прижался лицом к земле.
Подошел Белка и сказал, что поставил на место карбюратор. Тот, который ладил Набивач. Зачем?
Если бы всем сразу броситься за ним в погоню… Окрест расстилалась степь… Такое я читал на желтых страницах старых книг. А может быть, их делала желтыми слабая электрическая лампочка, которую я приладил возле своей кровати и прикрывал газетами, чтобы мама не сердилась за ночное чтение? Теперь я своими глазами видел, как степь размахивалась все шире… Когда мы с сержантом наткнулись на Эдьку, еще не было так видно вокруг… Сержант сразу понял, что случилось непоправимое…
У Набивача был конь, а у нас сбитые ноги. Он здорово обманул нас. Кажется, впервые в жизни я понял по-настоящему, что значит обмануть. А Ястреб? Хоть бы он заржал! Видно, ему стало все равно, но он был бессловесным и не мог в своем тяжелом одиночестве сказать, что его больше ничего не радует. Ни вода. Ни овес. Ни людская ласка. Будто дорога состарила бесноватого жеребца.
Усталость, как пыль, забивает поры живого. Уже ничего не хочется. Хорошо Семену. Хорошо Вене. Хорошо Саше. Хорошо Эдьке. Я даже обиделся на них за то, что они успокоились, оставив нам эту дорогу. Вот пистолет. Он оттягивает ремень на боку, только встанешь, и ремень перекашивается, упирается жестким краем в ребро и трет опавший живот. Вынуть бы, сделать еще одно движение… И не шагать дальше, зная, что впереди немцы. И даже не вставать.
Я вспомнил нашу прошлую жизнь…
Жива ли мама, если правда, что немец бомбит Москву? И сестры, и два младших брата — живы? Пусть со мной случится что угодно, только бы жила моя мама. И они все. Приехал ли к ним отец? Могли распустить геологов, могли призвать. Я ничего не знаю. Какой-то сейчас отец? У него седели усы.
В последний раз я видел его на станции Приисковой за Байкалом, куда мать привезла нас, трех мальчишек, через всю страну, чтобы показать отцу, как мы растем. Мы и правда росли, не уставая. Ботинки, которые отец купил к приезду мне, подошли среднему брату, Лешке. Но у отца был подарок и для всех. Тряский грузовичок от станции подвез нас к реке. Шилка — называется этот поток воды, спешащей куда-то. Властное течение стягивало паром, державшийся на толстом тросе, и трос напрягался до звона над летящими сизыми волнами. На этом пароме мы пересекли реку, и в лесной избе, занятой геологами, расселись перед ящиком живых апельсинов. Они были оранжевые, щедро обсыпанные красными точками, как крупой, и сочные дольки — в красную жилку и крапинку. Вся изба непривычно пахла ими.
— Папа, откуда это?
— Из Испании.
Наверно, пароходы, возившие испанцам оружие, швартовались и в дальневосточных портах.
В Москве начали носить испанские пилотки, такие, как на испанских детях, прибывающих в Москву. Та девушка, под окном которой я вертелся на велосипеде, сшила себе голубую пилотку. Я видел один раз.
Неужели майора Влоха расстреляли?
Немцы, наверно, уже в Первомайке.
Глупая мадонна!
— Идиот! — сказал бы мне Эдька.
А вчера, когда закатывалось солнце, он еще играл на губной гармошке.
Я слышу в тишине Баха. И Сапрыкина.
— Написал, Костя?
— Нечем.
Огрызок моего карандаша остался в добрых пятидесяти километрах отсюда, а может, и дальше. Надо было написать — Э. Музырь. На чем? Для могильного знака можно разломать одну из дверей в усадьбе. Все двери в ней тускло-голубые. Какая разница?
В кармане гимнастерки у меня хранится справка о том, что я имею право вернуться в институт. Без экзаменов.
Если бы я пришел пешком, не пришлось бы Набивачу убивать Эдьку, чтобы увести коня со двора усадьбы. И добрался бы я до нее на восходе солнца, когда степь открыта, не убежишь…
Но что же мне было делать? Я выполнял приказ и спешил.
На войне главное — делать свое дело, а все остальное некогда брать в расчет. Попробуй помирись с этим…
Я теперь всю жизнь стану считать себя виноватым… Если бы я не сказал про Белую Церковь…
К черту все предположения. И воспоминания к черту. Ничего не осталось, кроме войны. Тверди себе это и делай свое дело. Но какие невесомо-легкие слова!.. А ты тверди…
Я встал и пошел в усадьбу искать кол и дощечку для могильного знака. Сначала я спросил у всех карандаш. Не было…
Я вернулся и постоял на холме, у могилы, откуда виднелась в оба конца дорога. На ней зачернела фигурка.
— Товарищ сержант! Магнето!
Старик, кроме магнето, принес вареных яиц, соль в тряпице и полкаравая хлеба. Мы съели это на холме, возле свежей могилы, и я спросил, нет ли у старика карандаша. Старик ответил, что нет, и кивнул на могилу:
— Це ваш? Як же?
Белка тоже спросил его:
— Вам никто не попадался по дороге? В комбинезоне. На жеребце. Сером, в яблоках.
— Не було, — сказал старик, помотав головой, и покашлял в ладонь.
В круглых очках с блестящей оправой он был больше похож на конторского служащего, чем на сторожа. Весь такой морщинистый, что сами морщины сморщились по второму разу. Постоял перед могилой, сняв с головы соломенный бриль, и больше не надевал. Лысый, с кожей ледяного цвета, сбереженной от солнца. Да и какое солнце над ночным сторожем? Едва подойдя к нам, он стал извиняться, что старуха не пускала.
— Причепилась, язва!
Он ругал старуху, пока не увидел могилы.
— У меня трое пишло.
Лушин и Белка унесли магнето. Старик опять кивнул на могилу.
— Скажить, як зовуть? Стовбець поставлю и напишу… Петька? — Он взглянул осуждающе, когда я сказал ему. — Петро?
— Эдуард.
— Нашкрябайте, чым попало. А я вже зроблю, як треба.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/378704/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom.webp)