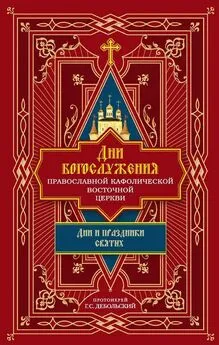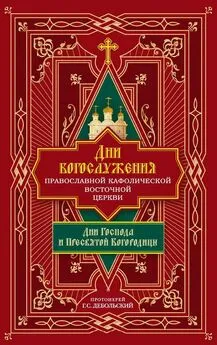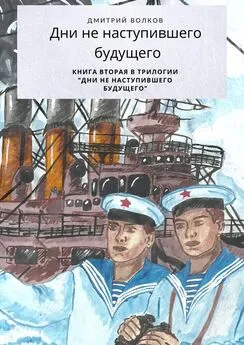Тимофей Чернов - В те дни на Востоке
- Название:В те дни на Востоке
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тимофей Чернов - В те дни на Востоке краткое содержание
Увлекательный роман о службе русских бойцов на границе с Маньчжоу-го в 1943–1945 гг и жизни российской эмиграции в Харбине. В романе присутствуют исторические лица Белой эмиграции: атаман Семёнов, главы Бюро российских эмигрантов в Маньчжурской империи Власьевский и Бакшеев, лидер Русского фашистского союза Родзаевский и его ассистент Охотин.
В те дни на Востоке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
До гребня высокого отрога оставалось рукой подать, но подъем был крут. Арышев слез с лошади, взял под уздцы. Монгольские кони, тащившие повозки, падали на колени и с помощью солдат взбирались на кручи. У самого гребня дорога прижалась к скале над глубоким обрывом. Бронебойщики осторожно провели своих коней. А пулеметчикам не повезло. Ездовой одной повозки хлестнул остановившихся лошадей, те рванули в сторону — колеса сорвались со скалы, и повозка, груженная боеприпасами, полетела в пропасть, увлекая за собой дико ржащих лошадей.
После этого случая солдаты не оставляли на произвол ни одной повозки, пушки, машины. Помогали друг другу взбираться на кручи. А узкие опасные места расширяли с помощью взрывчатки…
И вот батальон на гребне перевала. Гребень был вымощен неровными глыбами, местами поросшими зеленым мхом. Некоторые камни, будто обрызганные известью, пестрели от птичьего помета.
— Какая высочина! Аж дух захватывает, — дивился Вавилов. — А тучи-то хоть рукой доставай!
Неподалеку со скал поднялись две большие птицы.
— Смотрите — орлы! — закричал Степной. — Вот где они живут — не доберешься.
— А мы вот добрались! — сказал Данилов.
— Какая красотища! Какой обзор! — восхищался Веселов. — Километров на сто кругом все видно.
«Велик же ты, батюшка Хинган! — размышлял Арышев. — На сотни километров разбросал свои руки и ноги — кряжи, отроги и гряды. Сколько отважных путников видел ты на своем веку! Может, когда-то здесь проходили и наши деды, возвращаясь от павших твердынь Порт-Артура! А свет какой: дымчатый, сиреневый, синий. Синегорье. Точно, Синегорье».
«Сколько еще таких перевалов впереди? — думал Сидоров. — Одолеем ли? Должны!»
Тяжел был подъем, но и спуск оказался нелегким. Повозки и пушки притормаживали с помощью толстых ваг, вставленных в колеса. А машины опускали на тросах.
Пока полк скатывался в ущелье, скрылись очертания гор. В небе низко стояли звезды, как в морозную ночь… Путь солдатам преградил бурный поток, который вброд переходить было опасно.
Подъехал командир полка. Посовещавшись с офицерами, Миронов приказал сделать привал на ночевку, а саперам — соорудить к утру переправу.
Сидоров проснулся от сильного грохота. Ему показалось, что японцы открыли артогонь. Но, вслушиваясь, он понял, что это грозовые разряды. Они неслись с гор и эхом перекатывались по глубоким ущельям. По палатке хлестал дождь. Вот чего боялся комбат! Дождь мог вздуть ручьи и речки. И тогда не выберешься отсюда, не поднимешься на перевал. Капитан щелкнул фонариком, посмотрел на часы. Было четыре часа.
В пять сыграли подъем.
Ливень не прекращался. В ущелье было мрачно, как ночью. Кое-как позавтракав, роты двинулись через сооруженный за ночь понтонный мост. Дорога превратилась в вязкое месиво. Под ногами хлюпала вода, скользили и вязли кони, буксовали и намертво зарывались машины.
Солдаты вытягивали повозки, стелили гати для машин…
К полудню туман начал рассеиваться, оседать, цепляясь за скалы. Небо светлело. Дождь перестал. Повеселели бойцы, поживее стали двигаться. В колоннах шел бойкий разговор.
— Видно, не догнать нам самураев.
— У них же кавалерийский полк. Поди уж за Хинган удрапали.
…В первый день японцы не очень спешили, ждали подхода основных сил бригады. Но когда узнали, что за ними следуют русские, поняли — с бригадой что-то случилось и пошли быстрее, чтобы влиться в части, которые заняли оборону за Хинганом.
В полдень следующего дня полк спускался с последнего перевала. И тут внезапно разразилась стрельба. Быков, возглавляющий головную заставу, слез с лошади, отошел в сторону от дороги. Раздвинув ветви орешника, взглянул в бинокль. В долине, около речушки, приютилось небольшое китайское село. За серыми глинобитными фанзами пестрели плетни огородов. С окраины бил пулемет.
Быков послал Савушкина с Джумадиловым. По мелкому кустарнику они подобрались к пулемету и кинули гранаты. Стрельба смолкла. Но как только застава подошла к окраине села, заговорил другой пулемет. Бойцы прокрались огородами, обезвредили и его.
Полк вошел в село. На узкую улицу высыпали китайцы, прятавшиеся в фанзах и огородах. Они дружно кричали свое приветственное слово: «Шанго!»
Мужчины были в заплатанных штанах, некоторые босиком. Женщины — в черных брюках из дабы, в деревянных гетах. Тут же шныряли дети.
— Санго! Санго! — верещали они, прыгая рядом с проходившими подразделениями и машинами.
Неожиданно один мальчик упал. Из толпы вырвались тревожные крики.
Шофер остановил машину. Подошли солдаты и офицеры. Мальчик лет семи лежал вниз лицом, с виска струйкой бежала кровь. Оказывается, его ударило концом размотавшейся цепи, которая была надета на колесо автомашины — для лучшей ее проходимости.
Подъехал комбат. Около мальчика на коленях стоял отец в старой соломенной шляпе, с реденькой бородкой и впалыми щеками. Выяснив, что шофер не виноват, Сидоров стал объяснять китайцу, как это произошло.
— Моя понимай, капитан. Ваша не виновата… Комбат отозвал Арышева.
— Останьтесь здесь с тремя-четырьмя бойцами, похороните мальчишку. Потом догоните нас.
Роты еще проходили по селу, когда Старков взял на руки мальчика и понес в фанзу. Впереди шел китаец, позади — Степной и Арышев. Через разрушенную глинобитную стену китаец провел солдат во двор и пригласил в фанзу. Они зашли в тесную, прихожую, потом в большую комнату. Старков положил мальчика на кан, похожий на нары. Сбитый из глины, кан тянулся вдоль стены. В конце его был вмазая котел с плитой для приготовления пищи. На кане лежали двое грудных детей, прикрытых тряпьем. Около них сидела мать с исхудалым лицом и коротко подстриженными волосами. Увидев мертвого сына, она всхлипнула. Муж начал утешать ее что-то объяснять.
В фанзе было тесно, мрачно. В окна, заклеенные промасленной бумагой, с трудом пробивался дневной свет. Бойцы горестно качали головами.
Арышев не знал, из чего сделать гроб. Он вышел во двор. У корыта в грязи лежала пестрая свинья с поросятами, под сарайчиком копошились в навозе куры. Досок нигде не было видно.
Анатолий вышел на улицу, где стояла повозка. Взяв плащ-накидку, предложил в нее завернуть тело мальчика.
Отец не возражал.
Кладбище было за речкой. Бойцы вырыли могилку-окопчик, положили покойника по китайскому обычаю головой на восток. Мать в скорбном молчании смотрела, как русские солдаты засыпали могилку ее сына. На холмик земли отец положил небольшой серый камень. Мать опустилась на колени, расстелила возле камня лепесток, высыпала щепотку гаоляна и прикрыла его таким же лепестком. На этом и закончилось погребение.
Возвратись в фанзу, бойцы устроили своего рода поминки. Они угощали китайцев мясными и рыбными консервами, хлебом, сахаром, галетами. Дети с жадностью ели консервы тонкими палочками, похрустывали галетами, но к хлебу не притрагивались: не видели они его, не знали вкуса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
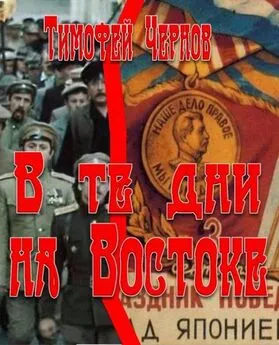

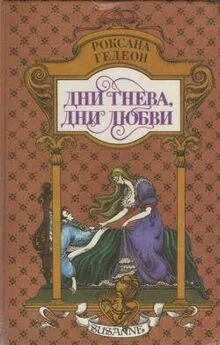

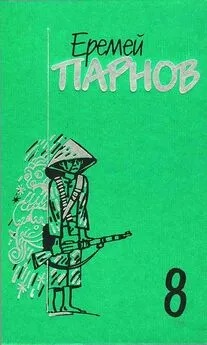
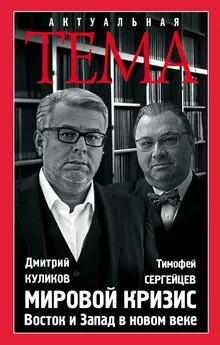
![Светлана Цыпкина - Черные дни в Авиньоне [СИ]](/books/1146844/svetlana-cypkina-chernye-dni-v-avinone-si.webp)