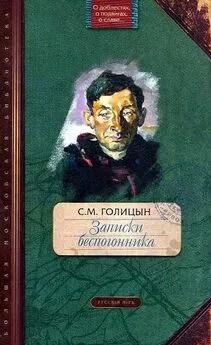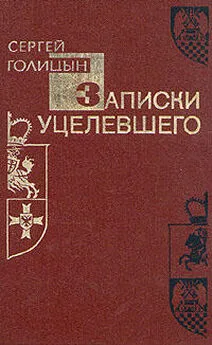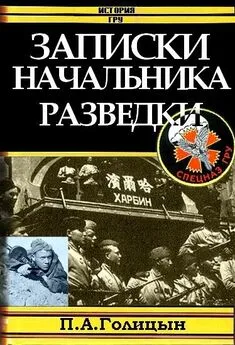Сергей Голицын - Записки беспогонника
- Название:Записки беспогонника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русскiй Мiръ
- Год:2010
- ISBN:978-5-89577-123-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Голицын - Записки беспогонника краткое содержание
Писатель, князь Сергей Голицын (1909–1989) хорошо известен замечательными произведениями для детей, а его книга «Сказание о Русской земле» многократно переиздавалась и входит в школьную программу. Предлагаемые читателю «Записки беспогонника», последнее творение Сергея Михайловича, — книга о Великой Отечественной войне. Автор, военный топограф, прошел огненными тропами от Коврова до поверженного рейхстага. Написана искренне, великолепным русским языком, с любовью к друзьям и сослуживцам. Широкий кругозор, наблюдательность, талант рассказчика обеспечат мемуарам, на наш взгляд, самое достойное место в отечественной литературе «о доблестях, о подвигах, о славе».
Записки беспогонника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я побежал прямо в дом, где он остановился. Доложил ему, как мы ехали, как оставляли квартирьеров, потом, волнуясь и заикаясь, попросил разрешить съездить к родным в Ковров за теплой одеждой.
Он разрешил с условием, что через два дня я приеду прямо в Гусь-Хрустальный, так как эшелоны должны подать через два дня. Я осмелел и попросил пол-литра спирту и кило свинины. Он засмеялся и выписал и то и другое. Я связал свои вещи и вышел на улицу ждать попутную машину.
До Горького оставалось еще 12 километров. Машин ехало множество, но тщетно я поднимал руку, хотя в каждой машине поверх груза сидели закутанные, заиндевевшие бабы. Я догадался побежать в ближайший дом, умолил хозяйку сменять мою поллитровку на две четвертинки, разлил спирт и опять вышел на улицу.
Показалась военная машина. Я поднял руку с четвертинкой, и машина, как в сказке, остановилась. Я сел и поехал.
В Горьком едва соскочил на снег, от мороза совсем застыли мои ноги и плечи. На ходу приложился к оставшейся четвертинке и с невероятным трудом через весь город проволок пешком свои вещи — чемодан и мешок с продуктами — на вокзал.
Народу там была такая тьма-тьмущая, что даже внутрь вокзала я не мог протиснуться. Направился в отделение НКВД и перед носом лейтенанта стал потрясать своим квартирьерским удостоверением.
Милиционер провел меня к самой кассе, которая была заперта перед полчищами разъяренных и измученных людей. Он взял у меня деньги и через пять минут не только вынес мне билет, но еще и проводил меня служебным ходом к стоявшему на путях пустому составу.
Я забрался на вторую полку. Через час пустили народ.
Вагоны затрещали от давки, от визгов, воплей и матерщины. Народу набилось столько, что люди сидели и стояли в проходе, и еще и еще протискивались новые толпы. А я на своей полке блаженствовал и даже взял к себе маленького мальчика.
Поезд тронулся. В Ковров приехали ночью. Едва выбрался из вагона, перевязал чемодан с мешком и пошел за 5 километров в Погост.
Ночь была особенно морозная. Ноги в сапогах начали застывать. Из-за тяжелых вещей идти быстро я не мог. Выбрался из города. Ноги совсем перестал ощущать. Несколько раз сбрасывал мешок с плеча и в морозном белом безмолвии при ярком свете луны пускался в дикий пляс.
Кое-как добрался до Погоста. Жена открыла дверь. Она никак не ожидала моего приезда. С великим трудом не она, а Дуся сняла с меня сапоги, так как портянки примерзли. Я почувствовал жгучую боль в ногах, выскочил в сени. Стали оттирать мои ноги снегом и спиртом. Я поморозил обе ступни, но удалось оттереть.
Утром я проснулся. Мальчики мои прыгали. Дедушка и бабушка — родители жены — уютно выглядывали с печки. Жена суетилась и жарила привезенную мной свинину. Распили оставшийся спирт.
Свою семью я застал в лучшем виде, чем ожидал. Дуся и отчасти жена заработали на трудодни полторы тонны картошки и еще сколько-то получили муки.
Словом, до весны они были обеспечены продуктами. За них я мог остаться спокоен, но не за родителей, живших в Дмитрове.
Разрешил я самому себе пожить среди своих два дня. На третий день рано утром положила мне жена в дорогу пышек и я поплелся в Ковров на станцию.
На этот раз я был экипирован как следует: сменил сапоги на валенки, а вместо тяжелого чемодана взял рюкзак. В Коврове узнал, что этой ночью наш эшелон проследовал в Гусь-Хрустальный.
Во Владимире у меня была пересадка, и в Гусь я попал под вечер. Никакой особенной давки и трудностей с билетами на рабочих поездах не было.
В Гусе я принялся искать наших и попутно осматривал город. Издали видел громаду собора и видел внушительные здания знаменитого хрустального завода. Капиталист Нечаев-Мальцев выстроил для рабочих маленькие белые двухквартирные чистенькие кирпичные коттеджи с черепичными крышами, с деревянными сараями и небольшим садиком на каждом участке. Такие, совсем одинаковые коттеджи растянулись по обе стороны нескольких длинных улиц. А в стороне на голом месте высились деревянные двухэтажные мрачные бараки, выстроенные в эпоху строительства социализма.
По оборванному, обтрепанному виду я вскоре узнал попавшихся мне на улице старичков-стройбатовцев. Они мне указали, где разместился штаб, но фамилии начальства называли все незнакомые.
В штабе я узнал, что в Гусь-Хрустальный приехали из Горьковского района работники 4-го Полевого Управления, а наше 5-е направлено дальше в Гусь-Железный, находящийся в 70 километрах от станции Тума, там сейчас, очевидно, разгружается наш эшелон.
Переночевал я в этом штабе, а утром двинулся на вокзал. Среди дня подошел поезд, и я без труда уехал в Туму.
Тума была большой станцией с поселком городского типа и, по случаю воскресенья, с базаром, куда я сейчас же направился. И сразу наткнулся на Итина и на двух наших топографов — Серянина и другого, Облогина, бывшего смоленского землеустроителя, попавшего к нам из стройбатовцев.
Все трое стояли с вещами возле тяжело нагруженной машины. Увидев меня, Итин патетически воскликнул:
— О, вот и вы! Еще десять минут, и вы бы опоздали и произошел бы величайший скандал. Идите сейчас же в магазин и покупайте пол-литра.
Последнее меня несколько удивило, так как я знал, что Итин был человек непьющий. Впрочем, я не стал задумываться и весело побежал за водкой.
Увы, оказалось, я должен был отдать святую водичку шоферу той попутной машины, которая стояла на площади. Нам предстояло проехать еще 70 километров, как выразился Итин, «принимать новый рубеж».
Взгромоздились на какие-то бочки и поехали. Мороз стоял градусов за 20, но в валенках и в полушубке мне было тепло. Вдобавок я покрылся одеялом с головой.
Целью нашего путешествия был, оказывается, не Гусь-Железный, а стоявшее недалеко большое село Погост. Ехали мы долго, несколько раз останавливались из-за сугробов на дороге. В одеялах, накинутых на голову, мы выглядели словно скифские каменные бабы. Тяжелее всех досталось пожилому Облогину. На его ногах были ботинки, обмотки и летние брюки.
Стемнело. Мы проносились через косматые леса, через деревни, занесенные снегом, по синим пустотам полей. Ночью въехали в Погост. Я едва вылез из машины, так затекли ноги и так я закоченел. По протекции шофера нашли ночлег и, не раздеваясь, не закусив, разлеглись на полу и заснули.
Утром встали. Итин и я пошли разыскивать начальника 1-го района нашего строительства Гусева, выехавшего сюда неделей раньше. От него мы должны были получить дальнейшие указания.
Погост было большое, когда-то очень богатое село с двухэтажными каменными домами. Меня поразила замечательная церковь XVIII века. Громадная, многоэтажная, вся белая, она высоко поднимала к небу синюю со звездами главу. Статуи святых и каменные вазы украшали ее стены, по наличникам окон, по карнизам, по капителям колонн вились затейливые узоры. По вычурности, по фантастике узоров, по очертаниям высокого шатра церковь напоминала знаменитый и красивейший московский храм Успения на Покровке, ныне варварски разрушенный. Нигде, ни в одной монографии, посвященной русской архитектуре, я не видел изображения погостовской церкви. Неужели ее тоже разрушили после войны?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: