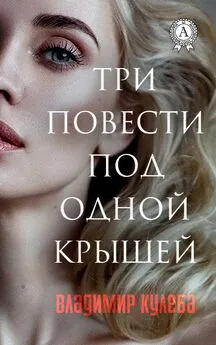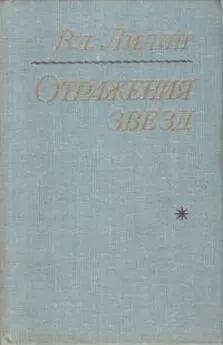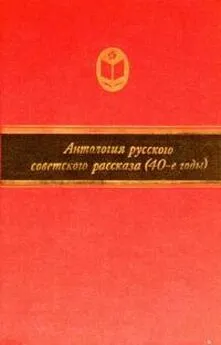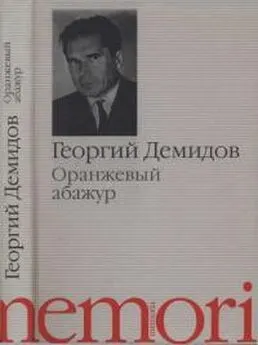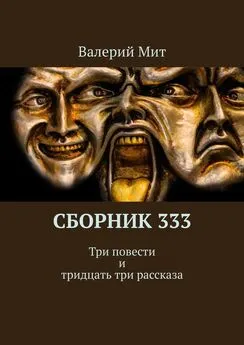Владимир Лидин - Три повести
- Название:Три повести
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1967
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Лидин - Три повести краткое содержание
В книгу вошли три известные повести советского писателя Владимира Лидина, посвященные борьбе советского народа за свое будущее.
Действие повести «Великий или Тихий» происходит в пору первой пятилетки, когда на Дальнем Востоке шла тяжелая, порой мучительная перестройка и молодым, свежим силам противостояла косность, неумение работать, а иногда и прямое сопротивление враждебных сил.
Повесть «Большая река» посвящена проблеме поисков водоисточников в районе вечной мерзлоты. От решения этой проблемы в свое время зависела пропускная способность Великого Сибирского пути и обороноспособность Дальнего Востока. Судьба нанайского народа, который спасла от вымирания Октябрьская революция, мужественные характеры нанайцев, упорный труд советских изыскателей — все это составляет содержание повести «Большая река».
В повести «Изгнание» — о борьбе советского народа против фашистских захватчиков — автор рассказывает о мужестве украинских шахтеров, уходивших в партизанские отряды, о подпольной работе в Харькове, прослеживает судьбы главных героев с первых дней войны до победы над врагом.
Три повести - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Это я — Саша, — сказал он в черную щель приоткрывшейся двери.
За дверью ахнули, его впустили. Дрожащими руками, звеня стеклом о жесть, мать стала зажигать в темноте лампочку.
— Ох, сынку! — сказала она и прижала к своей груди его голову.
От знакомого тепла ситца, от материнской груди, от этого найденного вновь в черноте степной ночи родного дома у Макеева заломило глаза, и тугая боль в переносице долго не давала ему сказать ни одного слова.
— Мамо, мамо, — сказал он наконец, уже не стыдясь этой боли: все-таки увидел он ее еще, затерявшуюся в черную годину.
Прижимая к себе его заросшую голову, она гладила ее, как в детстве, торопливыми частыми движениями, точно успокаивая его и примиряя с тем, что случилось.
— Чуяла я, сынку, что придется нам свидеться, — сказала она так просто, как будто только на день разлучила их судьба.
Керосину в лампе было на дне, и фитиль шипел и потрескивал.
— Загасите свет, мамо, — сказал Макеев уже твердым голосом. — Сейчас не нужно огня.
Она торопливо загасила огонь, и они остались в темноте.
— Не думал я, что живой вас найду, — сказал он, расстегивая на себе полушубок. — Они, звери, ни младенца малого, ни старика старого не щадят. Говорите все, мамо.
— Что же мне сказать тебе, Сашенька? — спросила она горько. — Нет нашего с тобой села… ничего не осталось. Все дома спалили, людей поугоняли… кого окопы рыть, кого с собой забрали невидо́мо куда. Ни птицы, ни животинки — ничего не оставили. А народу поубивали сколько…
Она замолчала, только по клокотанию в ее горле он понял, что она не пересилила себя и заплакала.
— Вы сядьте поближе, мамо, — сказал он с нежностью. — Они еще не весь свет спалили, не всех людей погребли. Може, я вас еще поутешаю немного. — Она села с ним рядом, и он обнял ее за худое старушечье плечо. — Есть еще сила, мамо, — сказал он, теснее, точно дорогую находку, прижимая ее к себе. — За все ваше горе, за стариковские слезы ваши — за все она отплатит, дайте срок.
— Я, сынку, ни одной слезинки не выронила, — сказала она с жесткой, знакомой ему с детских лет выдержкой. — При тебе первую сронила.
Она сидела рядом с ним в темноте, твердая, несмотря на годы.
— Они, мамо, за все полностью ответят, — сказал он не сразу. — Вы об этом не сомневайтесь.
Теперь только пришла минута поведать, как пробрался он сюда в тылу у немцев. Она выслушала его, казалось, безучастно.
— Школу нашу новую, хорошую сожгли, — сказала она, — кино наше спалили… У Митрофановых всех четырех сыновей увели с собой в степь. В балке, може, шестьдесят человек покровских свалили. Курочкина хромого утюгом прямо в швейной убили…
Он выслушал все.
— Что же мы так сидим с вами… — сказал он вдруг. — Вы, думаю я, хлеба настоящего давно не кушали.
Он развязал свой мешок, достал хлеба и протянул ей. В темноте она начала есть, — горе, голод, одинокая старость встретили его тут, в уцелевшем чудом родном доме.
— А как, немцев много кругом? — спросил он осторожно.
— Ни… большая их сила наперед ушла. Только в школе комбайнеров, може, штаб их, може, еще что помещается.
Она жадно ела хлеб, и Макеев дал ей насытиться.
— Вы меня куда-нибудь схороните, — сказал он, — чтобы не застал кто случа́ем. А раненько вы мне еще порасскажете.
Она медлила, и он почувствовал в темноте, что она перестала жевать хлеб.
— Ты думку какую имеешь, за́раз матери говори, — сказала она строго. — Я еще только твои шаги услыхала, а уже знала, что — ты…
Он помолчал.
— Что ж, мамо, скрывать от вас мне нечего. Може, маленько поквитаюсь… а то счеты не сходятся. Утром мы с вами обо всем потолкуем.
В темной кухоньке, где летом обычно жужжали и толклись мухи, он лег на знакомую скамью. После ветра весны и длинного степного перехода густая блаженная истома, как в детстве, поползла к концам пальцев, потом к натруженным усталым ногам. Уже в полусне почувствовал он, как руки матери подтыкают худую уцелевшую одежонку, которую навалила она на него для тепла.
Он проснулся в тот утренний час, когда только едва посинело низенькое, завешенное дырявой ряднинкой окно. Мать уже не спала. Согнувшись («Совсем древняя стала», — подумал он с болью), она ломала сучки, и жалкое тепло едва розовело в искрошившейся печке.
— Вы, мамо, чаю мне не грейте, — сказал он, разом поднявшись и стирая тылом руки остатки сна с глаз. — Не надо, чтобы дым был виден над домом. Хотелось бы мне на наше село посмотреть. Где у немцев здесь караулы, не знаете?
— Нема на селе караулов. У склада только при школе стоит часовой.
— А на складу что? — спросил он не сразу.
— Там у них снарядов до самого верха наложено… може, для пушек, може, еще для чего.
Он подошел к ней и взял ее за плечи.
— Слушайте, мамо, — сказал он коротко. — Мне на вас негоже беду накликать. Ухожу я от вас, будто и не заходил никогда. И имени моего не поминайте, не надо. Только поскачут скоро по степи наши красные конники… недалёка та зорька. — Он достал из своего мешка хлеб и три куска сахару. — Сердце свое я вам оставил бы, мамо… а больше ничего нет со мной.
Слезинка защекотала ему ресницы, и он незаметно сморгнул ее. Ах, мать, мать… взять бы на руки ее сухое, легкое тело и унести с собой, как носила она его в детстве, через всю широкую степь и согреть и сохранить ее последние годы… Она стояла перед ним, опустив руки с толстыми синими жилами, знакомое родимое пятно, еще более потемневшее от времени, было близко от его лица, и откуда-то из детства, из прошлого, из самой далекой глубины его жизни смотрели темные, скорбные и все еще прекрасные глаза.
— Что ж, сынку, — сказала она с какой-то непоколебленной ясностью. — Може, нам еще солнце и засветит… Закрой-ка глаза, — приказала она.
Он закрыл глаза, и по легкому, едва ощутимому движению высохшей ее руки возле его лица он почувствовал, что она его перекрестила. Нет, были сухи ее глаза в этот час расставания, ни единой слезинки не сронила она, гордая доверием, которое он ей оказал, и высокой целью, приведшей его сюда в глухой час.
— Я задами пойду, — сказал он уже деловито. — Если свидеться не придется, вы обо мне не плакайте, мамо… А другой дороги у меня нету и не может быть.
Он толкнул низкую дверку крыльца и быстро сошел со ступенек в глубину сада. Старые уцелевшие яблони еще стояли в саду. Когда-то обертывали их на зиму соломой и хворостом от оголодавших за зиму зайцев. Он стал пробираться задами. Ни один петух не прокукарекал в этот час рассвета, — все было мертво в опустошенном селе. Точно каменные бабы на степи, стояли печи на месте сожженных домов. Он узнавал иногда по затейливым изразцам, кому они давали тепло.
Так прошел он все село по задворкам и снова спустился к реке. Чернела и журчала вода меж камней. Знакомая силосная башня одиноко высилась посреди поля. Направо, в рощице, еще смутно видной в рассвете, белело длинное здание школы комбайнеров. Немецкий часовой, видимо озябший за ночь, стоял у больших ворот сада. Дождевой плащ острым горбом торчал за его спиной. Макеев вспомнил в этот миг жалкое тепло в искрошившейся печи, и то, как мать провожала его, и ясную веру в лучшее ее несломленной души. «За все ваши слезы, мамо, за все ваше горе поквитаюсь», — сказал он почти вслух в синеву этого весеннего степного рассвета.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



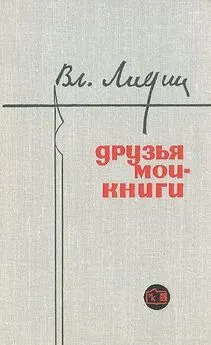
![Владимир Лидин - Рассказы о двадцатом годе [Сборник]](/books/585650/vladimir-lidin-rasskazy-o-dvadcatom-gode-sbornik.webp)