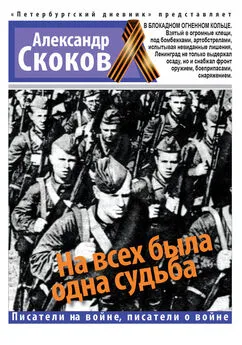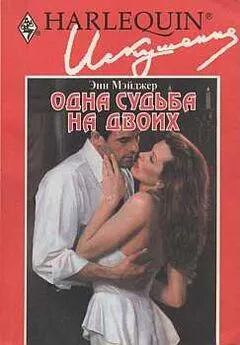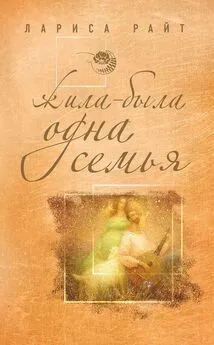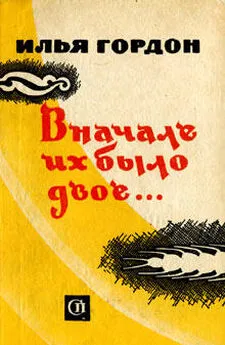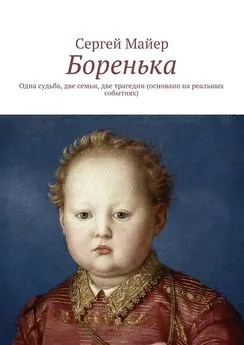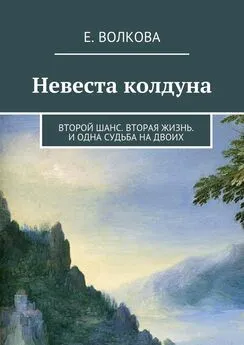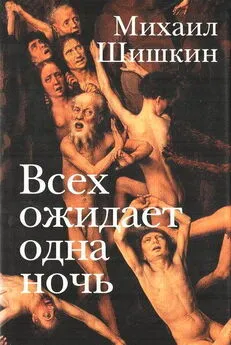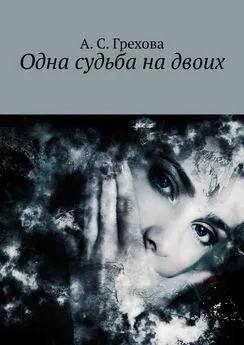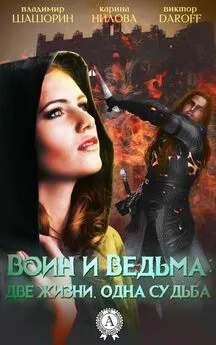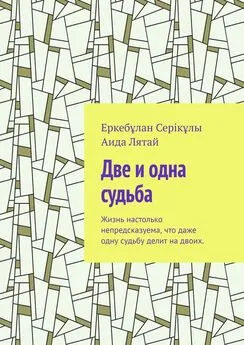Александр Скоков - На всех была одна судьба
- Название:На всех была одна судьба
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Петроцентр»404bf1d1-0706-11e6-a7c6-0cc47a5203ba
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91498-062-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Скоков - На всех была одна судьба краткое содержание
По разработанному в июле – декабре 1940 года плану «Барбаросса» судьба Ленинграда была предопределена: стереть с лица земли. В документе 114 из «Главной квартиры фюрера» записано: «… капитуляция Ленинграда, а позднее Москвы не должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена противником…» Стремительно продвигавшиеся к Ленинграду немецкие войска были остановлены на Лужском рубеже на 45 дней. Началась великая битва за город на Неве, завершившаяся победным Салютом в январе сорок четвертого…
На всех была одна судьба - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ленинград готовился к обороне. Противотанковые рвы, надолбы на улицах, площадях; угловые дома превращены в огневые точки. На заводах, в том числе и судостроительных, отливаются бронеколпаки, способные надежно прикрыть пулеметчиков, бронебойщиков. Город, разделенный на укрепрайоны, опоясывают линии обороны – от окраин к центру.
Несмотря на то, что большая часть предприятий была эвакуирована на восток, Ленинград давал фронту танки, орудия, стрелковое оружие, боеприпасы, поддерживал в боевом состоянии корабли Балтфлота. Пришлось Сергею Алексеевичу работать на линкоре «Октябрьская революция» – требовался ремонт вспомогательного дизеля, бесперебойно дававшего электроэнергию всю блокадную зиму для корабля, береговых объектов. Корабли, стоявшие на Неве, не только прикрывали город с воздуха, громили врага на ближних подступах, но и давали ток предприятиям, хлебозаводам, госпиталям. Даже кратковременное отключение электроэнергии вело к тяжким последствиям…
В статьях, рассказах, воспоминаниях о боевых операциях на суше, в воздухе, на море на первом плане обычно те, кто вел бой, управлял кораблями, подлодками, танками, самолетами. Изредка упоминаются создатели, конструкторы грозной техники, стрелкового оружия – обычно два-три имени: Туполев, Ильюшин, Кошкин, Калашников… Сотни, тысячи рядовых конструкторов, изобретателей, техников, талантливых умельцев остались безвестными, как и миллионы рядовых великой армии трудового фронта – металлурги, прокатчики, слесари, сборщики, наладчики, оптики… Без этого второго, тылового фронта не было бы Сталинграда, Курской дуги, освобождения от блокады Ленинграда, штурма Берлина. Не имея званий и наград, они остались безымянными в истории народного подвига. Но мы должны помнить о них, потому что они – тоже наша Победа.
ГУДКИ БЛОКАДНЫХ ПАРОВОЗОВ
Сдревних времен по великим и малым рекам Руси наши предки вели торговлю, сплавляли лес, отправлялись в дальние края через моря и океаны. В XIX веке в России начали строить железные дороги; ныне мы занимаем одно из первых мест в мире по протяженности стальных магистралей. И профессия железнодорожника стала одной из самых почетных в нашей стране.
В осажденном городе все 900 дней бесперебойно работал железнодорожный транспорт. Это был массовый подвиг тысяч и тысяч машинистов, кочегаров, путейцев, инженеров, техников, рабочих станций, вокзалов, железнодорожных мастерских… По железной дороге на передовую уходили составы с танками, артиллерией, снарядами, продовольствием, свежим пополнением, в обратном направлении – требующая ремонта военная техника, санитарные поезда. Бронепоезда, железнодорожные батареи – крепости на колесах – громили врага по всему кольцу обороны. Имея возможность бить с ближних дистанций, они наносили врагу огромный урон. В самом Ленинграде, оглашая замерший город далеко слышными свистками, сновали к хлебозаводам «кукушки» с платформами, нагруженными мешками. Из этой муки выпекался блокадный хлеб…
Родовые корни Васильевых питала древняя псковская земля. Пётр Васильевич, отец Таисии, приехал в Питер из деревни Дымово перед войной, устроился в железнодорожные мастерские по своей деревенской профессии – кузнецом. Специальность по тем временам уважаемая, обычно кузнечному делу учили с малых лет, ремесло передавалось от родителей к детям. Перебралась с дымовским кузнецом и семья – жена, Анастасия Ивановна, двое сыновей и младшая дочь Тая. Шел ей тогда десятый год, свой третий класс она начинала в 363-й школе на Волковском проспекте. Жила семья кузнеца в коммуналке, в бараке, который по-старинному назывался казармой. И размещались в такой казарме семей десять. В каждой семье – полно ребят, подружек для игр у приезжей девочки хватало. Таких казарм на станции Волковской было три, стояли они у самой железной дороги, и свои городские сны видела Тая под шум проходящих поездов…
В 1941 году ей исполнилось четырнадцать. Петра Васильевича к тому времени по производственной необходимости перевели с Волковской на станцию Цветочная, в такую же мастерскую кузнецом. Жила семья снова в казарме, только уже ближе к центру, на улице Заставской. С началом войны на железную дорогу легла огромная нагрузка, опытные специалисты были на особом счету; остался на своем месте у горна и Пётр Васильевич.
Старший сын Алексей ушел на фронт и уже домой никогда не вернулся – погиб смертью героя. Младший, Иван, учился в ФЗО на помощника машиниста, вместе с училищем позже был эвакуирован из блокадного Ленинграда.
До самых морозов Тая вместе с Анастасией Ивановной отправлялись в пригород, на поля, добывая из-под снега капустные листья, ту самую «хряпу». Бомбежки, артобстрелы продолжались с утра до темноты. Железная дорога, станции, вокзалы были на постоянном прицеле у противника, и семья Васильевых ночевать часто отправлялась в землянку, устроенную в насыпи. Укладывались на нарах, кто как мог.
Блокадные брусочки хлеба семья получала в магазине на Заставской. Эту обязанность Тая взяла на себя, как и доставку воды. Иногда грела снег в ведре, на плите, а иной раз отправлялась к люку на улице, откуда бил незамерзающий «родничок». В очередь за хлебом становились спозаранку, затемно, на ледяном ветру мороз пробирал до косточек. Тонкий ватничек, бурки не могли спасти от такого холода. Но Тая вместе с очередью терпеливо ждала, когда откроют заветную дверь. На троих выходило чуть больше полкилограмма – по иждивенческой карточке ей самой приходилось 125 граммов… Годных к обмену вещей в семье не было, и все же удавалось иногда добыть плитку столярного клея или бутылку олифы, которую следовало долго жарить, калить. Прогорклый запах днями не выветривался из комнаты.
В 1942 году с помощью Петра Васильевича Тая устроилась в железнодорожные мастерские Балтийского вокзала учеником слесаря. Это было не случайное решение: детство ее прошло среди людей «крепких» профессий – механиков, кузнецов, слесарей, сварщиков… Так и пошел с 1 декабря блокадного 1942-го ее трудовой железнодорожный стаж.
Учеба, отработка навыков, практика… Мастерили из жести коптилки, чинили путевой инвентарь. Но чаще учеников – и ребят, и девушек – отправляли на восстановительные работы. Бомбежки, артобстрелы повторялись изо дня в день, из ночи в ночь. Не только подвижной состав и станции – железнодорожное полотно само по себе было объектом для нанесения ударов. Его-то и восстанавливали вместе с путейцами ребята и девчушки из учебной группы. Вручную, с помощью тросов, подтаскивали рельсы, шпалы, подбивали, подсыпали балласт… И все это на ветру, на холоде, день-деньской, а вечером, как бойцы МПВО, отправлялись в очередное дежурство. Обычно их пост находился на крыше Варшавского вокзала. Сбрасывали «зажигалки», не давали разгореться огню. Поздно ночью, не чувствуя рук и ног, приходила домой, а утром, пешком, снова в свою мастерскую. К восьми должна быть у своего верстака. За ночь отогревалась в тепле – «буржуйку» топили обломками старых шпал, их на станции хватало.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: