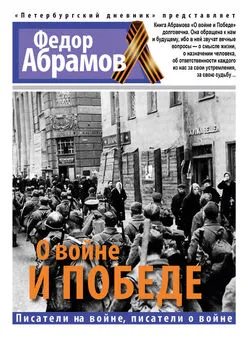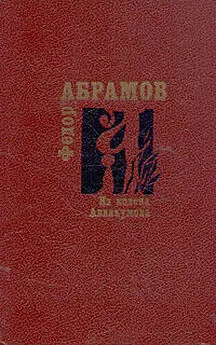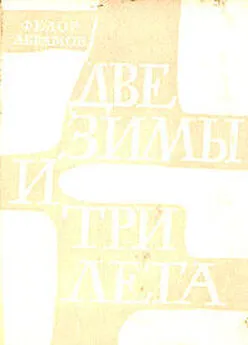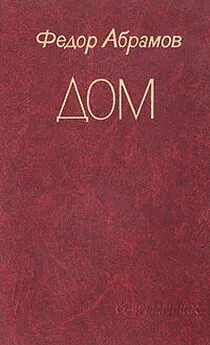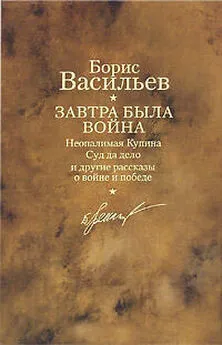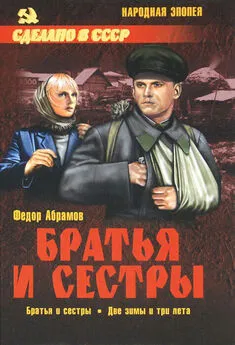Федор Абрамов - О войне и победе
- Название:О войне и победе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Петроцентр»404bf1d1-0706-11e6-a7c6-0cc47a5203ba
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91498-078-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Абрамов - О войне и победе краткое содержание
Предлагаемая книга впервые включает все художественные и документальные произведения Федора Абрамова о Великой Отечественной войне и Победе, в том числе ранее не публиковавшиеся материалы из рукописного архива писателя.
О войне и победе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В-третьих, если и появлялось у людей сострадание, то они думали, что они недостаточно революционны, что это сострадание и жалость предосудительны. А как же? Сам пролетарский писатель заклеймил жалость как унижающее человека чувство. И, следовательно, если они и жалеют, то потому что недостаточно подкованы. И наконец, страх. Не выпустить врага. Лучше засудить 100 безвинных, чем пропустить одного врага. А потому закидывай невода. И не верь, если тебя уверяют, что он не прав.
Доказательства? Доказательств нет. Но, во-первых, большинство следователей не искушены, неграмотные (может быть, их поэтому и не учили?), а во-вторых – коварство врага.
Гипноз – служение революции.
Солженицын говорит, что чекисты хорошо ели, легко работали. Может быть, в лагерях – да. А у нас в округе – ужас. Как раз наоборот, офицеры в воинских частях не голодали. Им перепадало с солдатской кухни. А нам – нет. Правда, генерал и Васильев были сыты. И начальники отделений».
30 июня 1973 года к этим рассуждениям добавились новые:
«В “Смерш” были разные люди: грамотные, кретины и т. д. И кое-кто понимал, что люди, попадавшие туда, никакие не враги и не шпионы.
Ведь то, что им предъявлялось в качестве обвинения (говорили в колхозах, не было оружия на фронте в первые месяцы войны), обо всем этом они говаривали или думали и сами. Но таков автоматизм мышления, который действовал в этой системе: раз попал, надо осудить. Ибо освобождение – брак, и на наказание в 10 лет смотрели как на какую-то норму. И к тем не было никакого интереса… Осуждали автоматически, часто без всякой злобы».
Вообще Абрамов неоднократно возвращался к преступным установкам и методам следственной работы, которые тянулись от репрессий тридцатых годов. Еще в 1958 году он с возмущением писал: «Дико: работа оценивается по количеству арестов. Отсюда – злоупотребления». Писатель собирался деятельность контрразведки военных лет сопоставить с преступлениями 1937 года, хотел ввести в повесть «тип следователя того времени».
В январе 1965 года в заметке «Сталинские принципы следовательской работы» автор кратко излагал те установки, исполнять которые требовали Вышинский, Ежов, Берия, а в повести – Васильев.
«В деле нет состава преступления. Человек невиновен. Но где формальные (документированные) доказательства его невиновности? Да, вина человека не доказана. Но ведь не доказана его и невиновность.
Для того чтобы освободить подследственного, надо доказать его невиновность, хотя бы в деле и не было доказательств его виновности. А это не входит в функции следователя. Он не адвокат.
Следователь в “Смерше” выполнял роль прокурора. Предполагается заранее, что арестованный человек – враг».
Но Абрамов избегал огульного осуждения чекистов. Более того, он подчеркивал, что в их среде было такое же социальное расслоение, как во всем обществе. О том – полемическая запись 3 октября 1980 года:
«О привилегиях “Смерш”.
Считается, что работники НКВД, а следовательно, и “Смерш” образовывали особую элиту, которая пользовалась особыми привилегиями. Враки!
Да, Голованов и Васильев имели привилегии и зав. отделами – снабжались лучше, а что касается рядовых – только что с голоду не пухли. 600 граммов хлеба, тощий приварок – что это за питание для молодого мужика, работающего по 12–15 часов в день?»
Но значение повести не только и даже не столько в исследовании трагического бытия человека в условиях тоталитаризма. Значение и глубинный смысл повести – в поисках форм и путей противостояния злу, в поисках истины и достойного человеческого поведения. Может быть, потому и считал писатель «повесть о следователе» своей лучшей вещью, что в ней он особое внимание обращал именно на процесс самопознания и самосознания, самосовершенствования личности.
Абрамов был убежден: путь к улучшению мира пролегает через ум и сердце каждого человека. Мир будет лучше или хуже в зависимости от совести, от поведения, от сознания и эмоциональных реакций каждого из нас.
Еще в 1976 году в речи на писательском съезде Абрамов говорил: «Нельзя заново возделать русское поле, не возделывая души человеческие». В тот год он как раз много думал о повести «Кто он?», именно тогда назвал ее лучшей.
Экономическое благосостояние – был убежден писатель, – невозможно без духовного оздоровления общества, социальными средствами невозможно обновить. <���…> Нужен одновременно второй способ. Это самовоспитание, строительство своей души… каждодневное самоочищение проверка своих деяний и желаний высшим судом, который дан человеку – судом собственной совести». Главная суть повести, пожалуй, и состояла в том, чтобы помочь читателю осознать и почувствовать, сколь необходим и одновременно тернист, труден этот путь самосознания, поисков истины, созидания человека в самом себе.
Впервые: Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979; Соч., т. 3, под названием «Слово у гроба».
Слово было произнесено на гражданской панихиде по Ольге Берггольц в Ленинградском Доме писателя им. В. В. Маяковского 18 ноября 1975 года.
В архиве писателя сохранилась еще заметка к портрету Ольги Берггольц, датированная 26 марта 1982 года:
«Какой-нибудь любитель исторических сравнений, возможно, назовет Ольгу Берггольц Жанной Д’Арк блокадного Ленинграда, Луизой Мишель, героиней Парижской коммуны. Не надо. Ольга Берггольц не нуждается в подпорках, чтобы встать выше. Она неповторима, как ее биография, ее судьба. Как подвиг блокадного Ленинграда. И потому бессмертна.
Она умерла, чтобы шагнуть в бессмертие. И она будет так долго жить в памяти людей, доколе стоять будет город на Неве».
Впервые: Ленинградский университет. 1979. 12 янв.; Соч., т. 3.
Быть достойным их памяти…
Впервые: Сов. Россия. 1980. 1 мая.; Соч., т. 3.
Впервые: Лит. газета. 1985. 6 марта.
Весной 1982 года Абрамов собирался написать статью «Ответ читателям». 21 июня он сделал публикуемый набросок к будущей статье, в которую должны были войти и размышления писателя на другие темы.
Впервые: Воспоминания о Федоре Абрамове. М.: СП. , 2000. С. 44.
Впервые: Воспоминания о Федоре Абрамове. М.: СП. , 2000. С. 54.
Впервые: Воспоминания о Федоре Абрамове. М.: СП. , 2000. С. 74.
Впервые: Аврора. 1978. № 5.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: