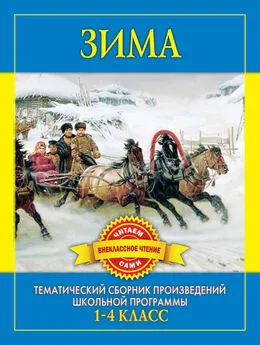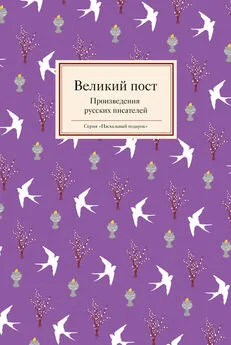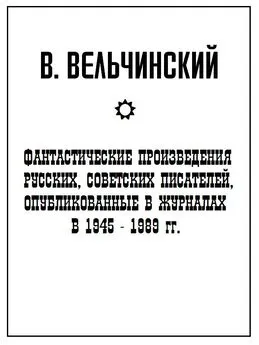Константин Воробьёв - Война. Krieg. 1941—1945. Произведения русских и немецких писателей
- Название:Война. Krieg. 1941—1945. Произведения русских и немецких писателей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАиК
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91631-115-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Воробьёв - Война. Krieg. 1941—1945. Произведения русских и немецких писателей краткое содержание
Впервые в одной книге представлены произведения о Второй мировой войне русских и немецких писателей-фронтовиков (К. Воробьева и Г. Айзенрайха, В. Кондратьева и Г. Ледига, В. Некрасова и Г. Гайзера, В. Быкова и Ф. Фюмана, Г. Бакланова и Г. Бёлля, Ю. Бондарева и З. Ленца, Д. Гранина и В. Борхерта). Когда-то судьба развела их по разные стороны фронта и друг друга они видели только сквозь прорезь прицела. Теперь у них есть возможность вглядеться друг другу в лица. И еще раз осознать, что главное — это оставаться человеком даже в нечеловеческих условиях.
Война. Krieg. 1941—1945. Произведения русских и немецких писателей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Непонятное желание сползать к немцу, загнанное внутрь трезвыми дневными рассуждениями, притаилось и знать пока о себе не дает, но заснуть не могу. Поворочавшись без толку с бока на бок с час, встаю. Обхожу посты — бодрствуют, просят покурить, тревожно спрашивают, не попрет ли немецкая разведка еще раз. Что ответить? Будьте начеку, не проспите, не прозевайте, тогда опять отобьем.
Подхожу все-таки к этому чертову овсянниковскому оврагу, а не хотел… Убитого не видать. Тень от склона закрывает его даже тогда, когда светят ракеты. Присаживаюсь на пенек, кручу самокрутку, но не закуриваю, кладу ее, уже прислюнявленную, в кисет, и вдруг — словно и не зарекался, словно и не запрещал себе и думать об этом — поднимаюсь и прямым ходом вниз, в лощину. Куда это я? Зачем? Беспомощные набегают мысли, а ноги несут меня дальше.
Я машинально пригибаюсь при вспышках света, замираю, а когда гаснут ракеты, иду дальше, не раз натыкаясь на трупы, не раз проваливаясь в заполненные водой воронки. И свет — тьма, свет — тьма…
Неожиданно одна из ракет вспыхивает прямо над лощиной, осветив ее дно, и, падая, вижу я на миг убитого мною немца и… рядом с ним какую-то колеблющуюся тень — что за чертовщина! Мерещится, что ли? Или кто из бойцов не выдержал, полез за табачком? Может, Лявин опять сноровился? Ну и задам же я ему!
Я осторожно, чтоб щелчка не было, взвожу затвор автомата. Лежа я ничего не вижу, небольшой бугорок передо мной пригораживает мне немца, а когда ракета погасла и я чуть приподнимаюсь, глаза не сразу к темноте привыкают, и я ничего впереди себя не различаю.
Решаю ползти дальше, но тут не то стон, не то всхлипывание какое-то останавливает меня — становится жутко, сердце колотится, дыхание сбивается, и я судорожно стискиваю ложу ППШ. Что ж это такое? Неужто жив еще убитый мной немец?
Некоторое время лежу неподвижно, потом, немного придя в себя, продолжаю опасливо двигаться дальше… Ракеты то вспыхивают, разливая мертвый, потусторонний свет, то гаснут, отгоревшие: свет — тьма, свет — тьма…
Проползя еще несколько метров, я поднимаю голову и чуть не вскрикиваю: пилотка на голове склоненного над убитым человека показывает мне ясно — это немец! Немец!
Я вжимаюсь опять в землю и сразу из похожего на сон состояния возвращаюсь к действительности. Дышу тяжело и лихорадочно соображаю, что делать дальше. Немца надо забрать — это несомненно! Но что он здесь делает? Выглядываю осторожно и в сумеречном свете ракет разглядываю — немец, сняв с себя ремень, прилаживает его к убитому… Понимаю, хочет вынести труп. Но не удастся тебе это, фриц! Не удастся! Меня охватывает то же нетерпение, что и утром, тот же азарт, но от волнения я делаю неловкое движение — ложа автомата задевает висящую у пояса «лимонку». Раздавшийся легкий стук кажется громом — немец поднимает голову…
Раздумывать некогда — рывком бросаюсь вперед и вот уже стою над немцем, направляя на него ствол ППШ…
Тот не успевает ни рвануть автомат с живота, ни даже приподняться — так и остается стоять на коленях, а его руки, державшие ремень, медленно, очень медленно начинают подниматься вверх…
Теперь — всё!..
Немец смотрит на меня без страха, как-то безразлично. Может, чуть растерянно. Мы очень близко друг от друга, и в свете то тут, то там вспыхивающих ракет ясно вижу его лицо — худое, с запавшими щеками и резкими морщинами. Он кажется мне старым, очень старым…
Я слегка откашливаюсь перед тем, как скомандовать немцу бросить оружие, но он опережает меня и, кивнув на убитого, бормочет:
— Майн брудер… Эр ист майн брудер… [8] Мой брат… Это мой брат… (нем.) . — примеч. ред.
Я невольно кидаю взгляд на убитого — скрюченное конвульсиями маленькое тело залито кровью, в предсмертном оскале страдальчески искривлен рот, мундир на груди весь в дырках от пуль… Ком тошноты подступает к горлу — и происходит нелепое, необъяснимое, невероятное: я опускаю автомат, повертываюсь и неровными, тяжелыми шагами ухожу из этого чертова овсянниковского оврага…
Войдя в рощу, я оседаю на землю, все еще ошеломленный, придавленный случившимся… Дрожащими пальцами еле-еле свертываю цигарку — газетка рвется, махорка сыплется…
— Товарищ командир, — слышу шепот около себя. Оборачиваюсь — Лявин!
— Чего вам? — еле проговариваю я.
— Закурить не найдется, командир? Мочи нет — курить охота.
Достаю кисет, молча протягиваю ему. Он завертывает самокрутку, выбивает кресалом огонь, со смаком затягивается и благодарит.
— Что же теперь со мной будет? — спрашивает он, а я не могу понять, о чем это он. — Черт тогда попутал… Да и голодуха эта… Вот думаю, чего совершить такого, чтоб простили меня…
Я не отвечаю, и Лявин, потоптавшись около немного, отходит от меня.
Я ни о чем не думаю, голова совершенно пустая, я только затягиваюсь дерущим рот дымом и бессмысленно гляжу на этот чертов овсянниковский овраг. Меня даже не тревожит, что Лявин мог видеть, как спускался в него, может, даже ходил за мной и видел все происшедшее. Мне все совершенно безразлично. Я с трудом поднимаюсь на ноги и медленно, не разбирая дороги, возвращаюсь к своему шалашу.
Филимонов сидит на корточках перед разожженным костериком и греет руки.
— Замерз что-то, — говорит он безразлично. — Что за весна беспогодная, такой холодище по ночам, — продолжает он, потирая руки. — Может, кипяточком побалуемся?
Я не возражаю и тоже протягиваю руки к огню — бьет меня противная мелкая дрожь. Филимонов вроде хочет поймать мой взгляд, но я уставился на огонь и молчу.
Разливая пахнущий дымом кипяток, Филимонов говорит:
— Неважно выглядите, командир… Почернели даже.
Я не отвечаю, а он продолжает:
— Вы… до этого, командир, хоть скотину какую… или хоть петуху голову рубали?
— Нет, Филимонов… Только на охоте один раз косулю…
— Ну, то дичь, другое дело, а тут…
— Я был сейчас там… В овсянниковском овраге, — вдруг вырывается у меня.
— Были?! — восклицает Филимонов, упершись в меня глазами. — Ну и что?
— Потом, Филимонов, потом…
— Понимаю…
Зачем я сказал Филимонову, не знаю. Просто я еще оглушен и мало что соображаю. То нелепое, что я совершил, отпустив немца, кажется мне совершённым не мною, я не понимаю и не могу анализировать свой поступок. Пока в глазах — оскаленный, искривленный рот убитого с черной струйкой крови, идущей по подбородку, и ощущение, страшное ощущение непоправимости всего случившегося, и еще какое-то неопределенное предчувствие — что-то будет, что-то будет…
Потрескивают догорающие ветки в костре, порой вспыхнет одна из них последним огоньком и осветит шалаш красноватым, колеблющимся светом, а я лежу на спине с открытыми глазами — опустошенный, словно выпотрошенный, без единой мысли в голове…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: