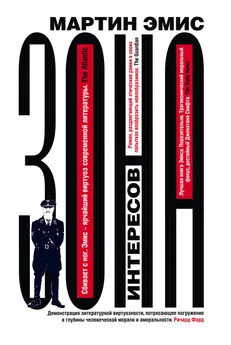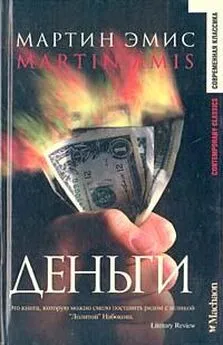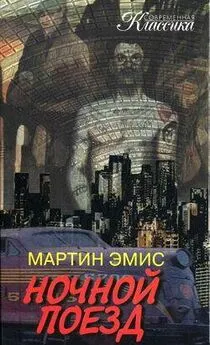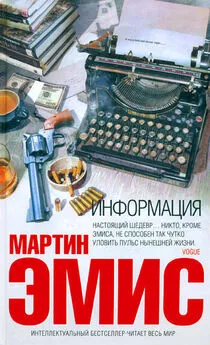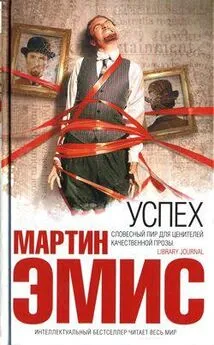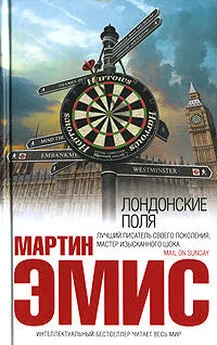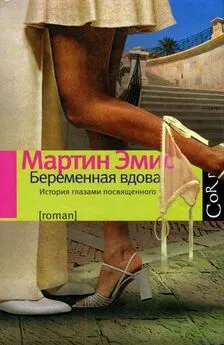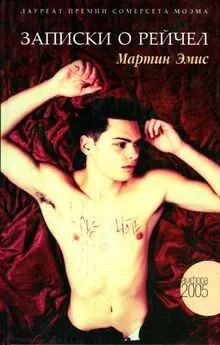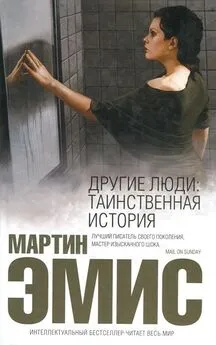Мартин Эмис - Зона интересов
- Название:Зона интересов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентФантом26bb7885-e2d6-11e1-8ff8-e0655889a7ab
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86471-724-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мартин Эмис - Зона интересов краткое содержание
Новый роман корифея английской литературы Мартина Эмиса в Великобритании назвали «лучшей книгой за 25 лет от одного из великих английских писателей». «Кафкианская комедия про Холокост», как определил один из британских критиков, разворачивает абсурдистское полотно нацистских будней. Страшный концлагерный быт перемешан с великосветскими вечеринками, офицеры вовлекают в свои интриги заключенных, любовные похождения переплетаются с детективными коллизиями. Кромешный ужас переложен шутками и сердечным томлением. Мартин Эмис привносит в разговор об ужасах Второй мировой интонации и оттенки, никогда прежде не звучавшие в подобном контексте. «Зона интересов» – это одновременно и любовный роман, и антивоенная сатира в лучших традициях «Бравого солдата Швейка», изощренная литературная симфония. Мелодраматизм и обманчивая легкость сюжета служат Эмису лишь средством, позволяющим ярче высветить абсурдность и трагизм ситуации и, на время усыпив бдительность читателя, в конечном счете высечь в нем искру по-настоящему глубокого сопереживания.
Зона интересов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пообщавшись с персонажами книги Джилла, проникшись их стоицизмом, красноречием, афористической мудростью, чувством юмора, поэтичностью и присущей всем им высокой восприимчивостью, можно добавить к этому списку еще одно желательное качество. Решающий упрек идее нацизма состоит в том, что эти «недочеловеки» были, как выясняется, сливками человечества. А развитая, тонкая и чуткая чувствительность оказалась – не удивительно ли? – не помехой, но силой. Помимо почти единогласного неприятия мести (и полностью единогласного неприятия прощения), собранные в книге свидетельства обладают и еще одной общей чертой. Через все эти воспоминания красной нитью проходит чувство вины: мы спаслись, а кто-то более заслуживавший спасения, кто-то «лучший», чем мы, погиб. Но ведь это иллюзия, пусть и великодушная, – при всем должном уважении к кому бы то ни было, никого «лучше» вас попросту не было.
В книге он остался неназванным; однако теперь я обязан набрать на клавиатуре слова «Адольф Гитлер». Взятый в кавычки, он почему-то кажется в большей мере поддающимся истолкованию. Ни один из серьезных и видных историков не претендует на понимание этой фигуры, многие подчеркивают: не понимаем , а некоторые, такие как Алан Буллок, идут еще дальше и признаются во все сильнее одолевающем их замешательстве: «Гитлера я объяснить не могу. И не верю, что кто-нибудь сможет… Чем больше я узнаю о Гитлере, тем труднее мне найти для него объяснения». Мы очень многое знаем о «как» – как он делал то, что сделал, – но, похоже, не знаем почти ничего насчет «почему».
Высаженных в Аушвице из поезда в феврале 1944-го, раздетых, прогнанных через душ, обритых, получивших татуировки (номера), переодетых в наобум подобранное тряпье (и изнывавших от четырехдневной жажды) Примо Леви и его товарищей, итальянских заключенных, загнали в пустой барак и велели ждать. Дальше в этом прославленном месте его книги говорится:
…я замечаю за окном на расстоянии вытянутой руки великолепную сосульку, но только успеваю открыть окно и отломить ее, как откуда ни возьмись передо мной вырастает высокий крепкий немец и грубо вырывает у меня сосульку.
– Warum? – только и могу спросить я на своем плохом немецком.
– Hier ist kein Warum (здесь никаких почему), – отвечает он и кулаком отбрасывает меня внутрь барака [123] Примо Леви. Человек ли это? ( пер. Е. Дмитриевой ).
.
В Аушвице никаких «почему» не было. А имелись ли «почему» в голове Рейхсканцлера-Президента-Генералиссимуса? И если имелись, почему же нам не удается их отыскать?
Один выход из этого затруднения подразумевает эпистемологический отказ: ты не должен искать ответ. И эта заповедь может принимать различные формы (приводящие нас к тому, что именуется теологией Холокоста). В «Отрицании Гитлера», сочинении почти сверхъестественной проницательности и твердости, Рон Розенбаум проявляет симпатию к духовной привередливости Эмиля Факенхайма (автора, к примеру, «Условий человеческого состояния после Аушвица»), но спокойно высмеивает секулярного, уверенного в своей правоте Клода Ланцмана (создателя «Шоа»), который называет любые попытки объяснения «непристойными». Розенбаум склоняется, скорее, к приятию позиции Луи Михилса (написавшего мучительно интимные воспоминания «Доктор 117641»): «Da soll ein warum sein. («Должно быть “почему”»). Как сказал Розенбауму в Иерусалиме Иегуда Бауэр «я и хотел бы найти [почему], да, но не нашел. В принципе, Гитлер объясним, но это не значит, что его объяснение найдено» .
Все же не следует забывать, что загадка этого «почему» делима: во-первых, мы имеем дело с обратившимся в витию австрийским artist manqué [124] Бездарный художник ( фр .).
; во-вторых, с немецким – австрийским – инструментарием, которым он воспользовался. Известный историк Себастьян Хаффнер исследовал это явление с двух сторон – так сказать, снизу, в «Отрицании Гитлера» (воспоминаниях о жизни в Берлине с 1914-го по 1933-й, написанных в 1939-м, после того как их автор покинул Германию), и сверху, в «Значении Гитлера», глубоком аналитическом труде, увидевшем свет в 1978-м, когда Хаффнеру исполнился семьдесят один год (в 1914-м ему было семь). Первая книга при жизни автора издана не была, и попыток как-то объединить две представленные им картины не предпринималось. Но мы можем попробовать сделать это и обнаружить между ними связи, отмахнуться от которых нельзя.
Что касается духа и умонастроения, то Volk [125] Народ ( нем .).
и Фюрер, как представляется, были вскормлены одним и тем же мутным дунайским настоем. С одной стороны, народ с присущим ему «неверием в политику» (как выразился Тревор-Ропер), нетерпеливым фатализмом, народ, закосневший в раздражении и упрямстве, в том, что Хаффнер называет «обидчивой серостью» и «воспаленной готовностью ненавидеть», в отказе от умеренности, а в пору невзгод и от любых утешений, народ, который исповедует кредо «кто кого» (все или ничего, Sein oder Nichtsein ) и готов принять иррациональное и истерическое. С другой – вождь, который позволил себе использовать эти же качества на уровне глобальной политики. Его загадочный внутренний мир, считает Хаффнер, во всей красе проявился в пору критического поворота войны, а именно в двухнедельный период между 27 ноября и 11 декабря 1941 года.
Когда блицкриг на востоке начал проваливаться, Гитлер зловеще заметил (27 ноября):
И в этом отношении я холоден, как лед. Если настанет день, когда германская нация окажется недостаточно сильной или недостаточно готовой отдать всю кровь за свое существование, пусть она погибнет, пусть некая большая сила уничтожит ее… Я не пролью о германской нации ни одной слезы.
К 6 декабря, как отмечается в «Журнале боевых действий оперативного отдела штаба Вермахта», Гитлер признал, что «никакая победа более не возможна». А 11 декабря, через четыре дня после Перл-Харбора, он смело, беспричинно и самоубийственно объявляет войну США. Где здесь то самое «почему» фюрера? Согласно Хаффнеру, он теперь «жаждет поражения» и желает, чтобы поражение было «настолько полным и катастрофическим, насколько возможно». С этого времени у его агрессивности появляется новая цель: немцы.
Такое толкование дает основу для понимания периода с декабря 41-го по апрель 45-го и помогает увидеть хоть какой-то смысл в Арденнском наступлении конца 44-го (которое, по сути, открыло восточную дверь русским), равно как и в двух невыполненных распоряжениях фюрера, отданных в следующем марте (одним был приказ о массовой эвакуации гражданского населения Западной Германии, другим – «Нулевой декрет» об использовании тактики выжженной земли). Теперь мы спрашиваем: как глубоко кроются истоки этого подсознательного стремления к самоуничтожению, а затем и его неизбежного антигосударственного следствия, сознательного стремления к «смерти нации»? И ответом, похоже, является: так глубоко, что и не сыщешь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: