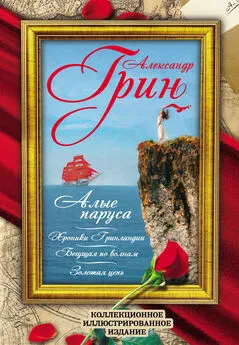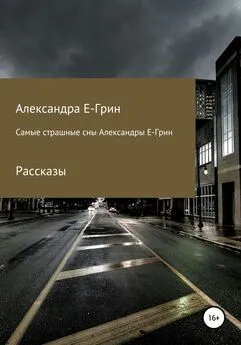Александр Грин - Психологические новеллы
- Название:Психологические новеллы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-268-00547-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Грин - Психологические новеллы краткое содержание
Вошедшие в книгу произведения, написанные в разные периоды жизни Грина, различные по форме и манере письма, объединяет углубленный психологизм, пристальный интерес к тайнам и скрытым возможностям человеческого сознания.
Психологические новеллы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он никогда ранее не смотрел так долго и тяжело в эту колоссальную трубу, поперечный разрез которой вдали смыкался высокой скалой, имевшей условное сходство с головой лошади, закинутой к небу. В ней, как в облачных фантомах, было неясное и подавляющее торжество слепой формы, живущей тенью чувств наших, бездыханно и поразительно, как мавзолей. Соответственно настроив внимание, можно было счесть соседние углы скал согнутыми передними ногами гигантского коня, вставшего на дыбы и задом оседающего в пустоту пропасти.
Не без усилия перестав рассматривать заставляющую замирать тьму внизу, Фицрой поднял тяжелый, как шест, взятый рукой за конец, взгляд на эту ясно обрисованную расстоянием каменную фигуру, перехватив ее застывшее фантастическое падение в тот момент, когда представил и продолжил его. Тогда все двинулось вокруг него плавным толчком, равным движению пристани и берега при отвале парохода, — горный горизонт начал оседать вниз. В груди Фицроя стало поворачиваться железо, давя и сося. Страх конвульсивно охватив его ноги, висел на них, скрывая лицо. Теперь твердая поверхность земли была для Фицроя лишь тонкой корой льда, простертого живописным покровом над черным ничем . Он чувствовал, что, если пойдет, его ноги будут странно и бессвязно плясать, и что Твиль сказал правду о четвереньках. Он ужаснулся, вдохнул как бы сухой снег, мгновенно пересекший дыхание, и, догадавшись, закрыл глаза. Бившееся, казалось, у самого горла сердце вернулось на свое место, стуча так нехорошо, что он прижал руку к груди: «Засмейся, Фицрой!»
Но для торжества у него не было уже сил. Он попытался вызвать его, сцепив зубы, коротким ругательством и не испытал ничего, кроме смутного удивления. По-прежнему, как врезалось в мозг, Добб срывался и летел перед ним вниз, но это видение возникало и проходило вне мстительного очарования, каким жил Фицрой до сего дня. Он открыл глаза с чувством набегающего пространства и, вяло спасаясь, оглянулся на строку Добба. Теперь уже не стоило возвращаться в каменную пустоту будущего. Но это проходило без мысли, без отчетливого сознания. Чувство непобедимой равнодушной пустоты в себе, других и внизу явилось ему с ясностью сделанного рукой знака, и он перешагнул к незнающей колебания, вдруг опустившей все повода и тяги холодной улыбке голого «все равно».
Рассеянно смочив языком такой же карандаш, каким писал Добб, Фицрой, тоскливо улыбаясь, приписал в слове «тебе» последнюю, перехваченную смертью букву и вывел внизу: «Думаю и люблю. И умираю — потому что носил зло».
Затем не более, как с чувством полета, рванувшего его силой оступившегося навсегда тела, он отделился от скалы и стал вязнуть в мгновенно проносящейся пустоте, — к мраку, начавшему беспощадно уходить вниз, скрывая все глубже истинное лицо свое. Фицроя било и трепало кинувшимся к нему воздухом. «А если не будет конца?» От этой мысли он умер, и его тело достигло неизвестной нам последней границы, где нет никогда дна и где его ожидал Добб.
Безногий
Когда я остановился…
Как правило, я не люблю зеркал. Они возбуждают представление отчетливой призрачности происходящего за спиной, впечатление застывшей и вставшей стеной воды, некой оцепеневшей глубины, не имеющей конца и вещей в далях своих.
В особенности жутко рассматривать отражения уличного зеркала, с его неточностью вертикала, где стены и улицы клонятся, привстав, на тебя, или — прочь, вниз, подобно палубе в качку, пока не отведешь глаз.
Мы обычно рассматриваем себя изнутри, не отделяя наружности, какой смутно помним ее, от мыслей и чувств, поэтому большей частью бываем настроены несколько мстительно и настороже, когда видим эту живую форму — свое лицо — отделенное от нас в беззащитное состояние.
Я не вернулся бы к зеркалу, не обратился бы к его немому подсказу, если б не замечание вполголоса:
— Смотри, калека, дай ему что-нибудь.
Это сказала женщина. Они сострадательнее мужчин, может быть, потому, что у них живее воображение чувств, отличное от воображения зрительного.
Я оглянулся и увидел человека в рваном пальто, сидящего на бедрах в тележке-ящике. У него было опухшее, безжизненного цвета молодое лицо; жизнь этого рассеченного пополам узника ушла в глаза, блестящие и напряженно бегающие по лицам идущей над ним толпы. Вся насильственно остановленная подвижность тела выражалась этим шагающим на привязи взглядом. Его плечи были сведены вперед, руки упирались в края ящика, палки лежали рядом.
Иногда, приподнимая черный картуз и снова туго натягивая его, он вносил этим движением в мои впечатления черту уродливого благополучия; тогда, с некоторым усилием, я мог представить, что этот человек стоит наполовину в земле, — как рабочий в водосточной канаве, — и что у него есть ноги.
Меня удерживало около него желание превзойти самого себя, постичь его ощущения, его вечное чувство укороченности, неправильного сердцебиения, его особый ход мыслей, всегда связанных с своим положением.
Я не знаю, почему было мне это нужно, так как я не люблю калек из чувства решительного, несколько раздраженного сопротивления, возбуждаемого этими переделанными, заштопанными телами, заставляющими вводить в спокойный и свежий свой мир вид несчастья уродливого, — увы, мы ищем гармонии даже в лохмотьях, картинности — в отравленной угаром мансарде, — и зрелище мужественной нужды тронет нас скорее, чем просто голодный вой, потому что первый случай картинности кует воображение.
При виде калеки я делаюсь замкнут, любопытен и холоден.
Я был таким и теперь, когда, не желая смущать несчастного, изучал его в зеркале, замечая, что и он тоже упорно смотрит мне в глаза в стекле, может быть, ожидая, что я подойду и дам денег.
Наверное, он так и думал.
Я убежден, что каждого прохожего он рассматривал исключительно с этой стороны, что его негодование было непрерывным, так как едва один из ста совал ему что-нибудь. В таких случаях калека механически кланялся и снова начинал вертеть ярким взглядом, находя, конечно, излишними всякие причитания и возгласы.
Когда в ящике накоплялось несколько штук бумажек, он неторопливо сортировал их и раскладывал по карманам, смотря перед собой с рассеянностью бухгалтера.
Я хорошо чувствовал и понимал это профессиональное настроение, связанное с особыми душевными искажениями, которые в свете жестокой, непроизвольной внутренней усмешки моей получали показной, театральный характер.
Калека был мне неприятен и жалок, но я не мог отойти от зеркала, рассматривая его с живейшим и ненасытным интересом, разбрасывая вокруг отрывочные картины боя, разрыва гранат, серого с розовой полосой утра, где в сумерках, с руками, оттянутыми носилками, спотыкаются санитары, и ровный, как пение самовара, стон сумеречного поля мешается с далекой пальбой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: