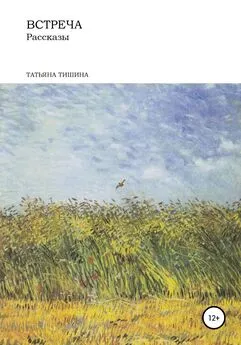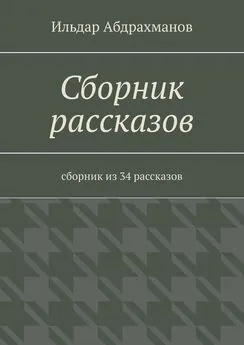П. Гнедич - Семнадцать рассказов (сборник)
- Название:Семнадцать рассказов (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Типография Н. А. Лебедева
- Год:1888
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
П. Гнедич - Семнадцать рассказов (сборник) краткое содержание
Санкт-Петербург: Типография Н. А. Лебедева, 1888.
Семнадцать рассказов (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Вы что же играли-то?
— Играл-то любовников, потом комиков… А теперь — что прикажете…
— Мест у меня в труппе нет.
Иван Фёдорович вынул конверт, вложил в него записку, и начал надписывать.
— Хоть какое-нибудь, — повторил Курепин.
— На какое-нибудь вы не пойдёте. Вон мне плотник нужен: ведь вы этого дела делать не станете? Ну то-то вот и есть. Василий! — громко крикнул он, не вставая и не поворачивая головы.
На зов его вошёл тот самый капельдинер, что ввёл Курепина в контору, черноглазый мальчик лет четырнадцати.
— Эту записку снесёшь по адресу, — сказал Колокольцев, — да позови ко мне Евстафия Игнатьича, живо!
Мальчик хлопнул дверью. и за нею послышались его быстро удалявшиеся шаги.
— Так как же-с, Иван Фёдорович?
— Да так же-с. Что же я вам могу сделать, коли мест нет? Пришли бы месяцем раньше, когда я труппу набирал, ну, другое дело. А теперь у меня всё полно-с.
Курепин вздохнул, съёжился, и голова его так и ушла в вытертый воротник старого сюртука.
Пискливая дверь конторы опять отворилась и через порог перекатился маленький Евстафий Игнатьевич — режиссёр господина Колокольцева.
— Ну, что? — спросил его Колокольцев.
— Да что же, — отрезвится к вечеру. До спектакля-то ещё четыре часа — очувствуется до тех пор.
— Я его штрафовать буду, — решительно заявил Иван Фёдорович. — Что это в самом деле, — ни одного дня покойного нет, — нельзя ни за один спектакль поручиться. Вы знаете Сморчкова? — обратился он к Курепину.
Тот встрепенулся, и сразу даже не понял, что его спрашивают.
— Как же, как же, — служили вместе. Он тоже вторым комиком был-с; не знаю как теперь, а прежде очень был не прыток.
— Теперь хуже: пьян ежедневно.
— Да и тогда было тоже-с… Мы с ним на одних ролях были,
Вдруг Колоколъцев поднялся с места: очевидно, его осенила какая-то мысль. Он взял Евстафия Игнатьевича за пуговицу, и повёл его в угол.
— Слушайте, — сказал он, — вот этот (он кивнул на сидевшего у окна Курепина) просится на сцену. Сморчков человек нужный, но запивает. Если взять этого для острастки, может и Сморчков остепенится.
— Что ж, может быть, — согласился Евстафий Игнатьич.
— Ведь это приём известный. Не ест собака молока, — стоит подозвать кошку, — так она сейчас из жадности всё сожрёт, чтоб другим не досталось. Если на этот случай сего кавалера взять?
— Для устрашения?
— Именно для устрашения. Вы как на этот счёт?
— Можно. Приём достаточно хитрый.
— А вы сколько бы желали жалованья? — спросил Иван Фёдорович, подходя к посетителю.
Тот встал, сгорбленный такой, жалкий.
— Да что положите, Иван Фёдорович.
Колокольцев ещё раз на него посмотрел. В глазах старика было что-то знакомое ему, — то самое, что некогда светилось в чудесных глазах дочери. Антрепренёру как-то жутко стало: «сгорела, сгорела на сцене, совсем, — брр…» Он повёл плечами.
— Мне некогда, — проговорил он, взяв с окна цилиндр, и придавая лицу ту значительность, которую он никогда не мог себе придать. — Вот Евстафий Игнатьич переговорит с вами. Если ваши требовании благоразумны, то вы придёте к соглашению. А теперь мне надо к полицеймейстеру на обед…
— Бог, Бог вас вознаградит, — захлёбывался старик, потрясая его руку…
Колокольцев не любил ничего такого чувствительного. Всю жизнь вращаясь в театре, он так разуверился во всех проявлениях аффектов. что когда кто пред ним плакал, он говорил:
— А нет — вы посмотрите, как моя примадонна плачет, — роскошь, удивление!
Но тут, сегодня, ему показалось, что может быть и искренно всхлипнул этот старик.
«Впрочем — коли жрать нечего, поневоле будешь всхлипывать, — решил он, — всегда натурально выйдет».
Даже сознание какого-то исполненного долга, чувство какого-то удовлетворения наполнило его, когда он, сходя с крыльца театра, стал натягивать перчатки.
— Да и этого скота, Сморчкова, надо проучить, — бормотал он, шагая по тротуару. — Он знает, что нужен — и потому неглижирует обязанностями. Посмотрю, как он запоёт, когда увидит дублёра. — Двух зайцев значит разом: с одной стороны — скота подтянешь, с другой — христианскую добродетель совершишь… Мило!
Евстафий Игнатьич предложил старику зайти в погребок и выпить пива — там и сговориться.
— Влюблён, влюблён в вашу дочку был, — говорил он после третьего стакана. — Я тогда ещё суфлёром был. Всех она своим вниманием дарила, о всех помнила. Бывало всё жалованье раздаст. У меня до сих пор её подарочек — портсигар серебряный — после своего бенефиса она подарила. Доброты была несказанной.
Курепин отлично знал, что его Надя была несказанной доброты, и ему решительно не надо было этого напоминать и рассказывать. Но приходилось из вежливости слушать.
— А уж талант-то был, талант! Ей, — кабы в Петербург или Москву вовремя она попала — уж какая бы её судьба была!.. Скажите — ну, а как же несчастье это с нею произошло?
Он не любил вспоминать про «несчастье». Ну что вспоминать? Охота переживать старое горе, старые затянутые раны ворошить. Но тут неловко было отказать.
— Да как произошло? Подошла на репетиции слишком близко к рампе, платье лёгкое — вспыхнуло; бросилась бежать — насилу поймали. Закидали её коврами, потушили, — да поздно уж было — грудь обгорела, и бока тоже. Через трое суток умерла.
— Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! — покачал головою режиссёр.
— И как она умирала, — ах как она умирала, кабы вы знали! Пела она. Понимаете: обожжённая-то вся, — в пузырях и в ранах! Лежит под голубым своим пологом и тонко-тонко. словно ребёнок, выводит нотки. Вот Офелию бы так играть. — А потом с девочкой, с дочкой прощалась. — «Ухожу, — говорит, — от тебя; свидимся ли — не знаю, да теперь-то мы расстаёмся…» Ну, и ушла. Ушла совсем. Всё была, всё была с нами — и смеялась, и веселилась, и вдруг нет.
Старик широко раскрыл свои вечно прищуренные глаза.
— И куда она, и где она — никому неведомо. Положим, её зарыли в землю, это все видели. Но разве это та была? Это было уж совсем другое, — это остаток того живого, а не живое. И вот теперь, до сих пор я с этим так и не примирился, так и не понял…
— А как она «Василису» играла! Боже мой как играла, — вдруг почему-то сообразил режиссёр.
— Вот Лизута, внучка моя теперь — портрет её живой, — продолжал Курепин. — Божество! Красота! Ею дышу, живу для неё. Чего бы мне, старому псу, на сцену-то поступать? Чтобы ей тепло было. Всё прожили, что прожить было можно. Ну и работать буду и работать.
— Вы в деньгах не нуждаетесь ли? — осторожно предложил Евстафий Игнатьевич.
— Натурально, — как же иначе и быть-то может, чтобы я не нуждался… Ни гроша в кармане.
Режиссёр порылся в портмоне и вытащил сложенную в восемь раз трёхрублёвую бумажку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

![Эльза Моранте - Андалузская шаль и другие рассказы [сборник рассказов]](/books/430984/elza-morante-andaluzskaya-shal-i-drugie-rasskazy.webp)