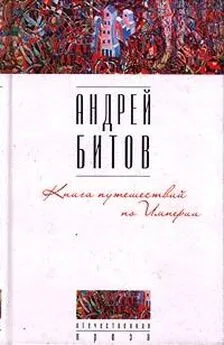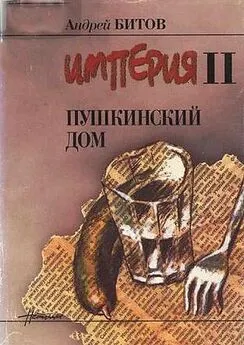Андрей Битов - Книга путешествий по Империи
- Название:Книга путешествий по Империи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:неизвестен
- Город:Москва
- ISBN:5-17-003885-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Битов - Книга путешествий по Империи краткое содержание
Русский писатель, мастер интеллектуальной прозы, лауреат Государственной премии, лауреат Пушкинской премии, президент российского Пен-центра. Поклонники утонченного стиля Битова с радостью встречают каждое новое произведение писателя. Предлагаем читателю «Книгу путешествий по Империи». Книга была подготовлена к изданию в 1991 году, однако увидела свет только сейчас.
Книга путешествий по Империи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И если бы некий наблюдательный интеллектуал сформулировал бы, хотя бы вот так, ей ее же — она не поймет: о чем это ты? — пожмет плечами. Она не знает механизмов опыта! Как она входит к больному!., никаким самообладанием не совершишь над собой такой перемены! она — просто меняется, и все. Ничего, кроме легкости и ровности, — ни восьмидесяти лет, ни молодого красавца мужа, ни тысяч сопливых, синих, потных, жалких, дышащих в лицо больных — никакого опыта, ни профессионального, ни личного, ни тени налета ее самой, со своей жизнью, охотной жизнью. Как она дает больному пожаловаться! как утвердительно спросит: очень болит? Именно — ОЧЕНЬ. Никаких «ничего» или «пройдет» она не скажет. В этот миг только двое во всем мире знают, как болит: больной и она. Они — избранники боли. Чуть ли не гордится больной после ее ухода своею посвященностью. Никогда в жизни не видать мне больше такой способности к участию. Зачета по участию не сдают в медвузе. Тетка проявляла участие мгновенно, в ту же секунду отрешаясь навсегда от своей старости и боли: стоило ей обернуться и увидеть твое лицо, если ты и впрямь был болен — со скоростью света на тебя проливалось ее участие, то есть полное отсутствие участвующего и полное чувство — как тебе, каково? Эта изумительная способность, лишенная чего бы то ни было, кроме самой себя, сочувствие в чистом виде — стало для меня Суть доктора, Имя врача. И никакой фальши, ничего
наигранного, никаких мхатовских «батенек» и «голубчиков» (хотя она свято верила во МХАТ и, когда его «давали» по телевизору, усаживалась в кресло с готовым выражением удовлетворения, которое, не правда ли, Димочка, ничто современное уже не может принести… ах, Качалов-Мочалов! Тарасова идеал красоты… при слове «Анна» поправляется дрожащей рукой пышная прическа…)…
С прически я начинаю ее видеть. До конца дней носила она ту же прическу, что когда-то больше всех ей шла. Как застрял у девушки чей-то комплимент: волосы, мол, у нее прекрасные, — так и хватило ей убежденности в этом на полвека и на весь век, так и взбивалась каждое утро седоватая, чуть стрептоцидная волна и втыкался — руки у нее сильно дрожали — втыкался в три приема: туда-сюда, выше-ниже и, наконец, точно в середину, всегда в одно и то же место, — черепаховый гребень. Очень у нее были ловкими ее неверные руки, и эта артиллерийская пристрелка тремора: недолет-перелет (узкая вилка) — попал — тоже у меня перед глазами. То есть перед глазами у меня еще и ее руки, ходящие ходуном, но всегда попадающие в цель, всегда что-то делающие… (Это сейчас не машинка у меня бренчит, а тетка моет посуду, это ее характерное позвякивание чашек о кран; если она била чашку, что случалось, а чашки у нее были дорогие, то ей, конечно, было очень жаль чашки, но — с какой непередаваемой женственностью, остановившейся тоже во времена первой прически, — она тотчас объявляла о случившемся всем кухонным свидетелям как о вечной своей милой оплошности; мол, опять — даже фигура менялась у нее, когда она сбрасывала осколки в мусорное ведро, даже изгиб талии (какая уж там талия…) и наклон головы были снова девичьими… потому что самым запретным поведением свидетелей в таком случае могла быть лишь жалость, — замечать за ней возраст было нельзя.)
Мне и сейчас хочется поцеловать тетку (чего я никогда не делал, хотя и любил ее больше многих, кого целовал)… вот при этом позвякивании чашек о кран.
Она сбрасывала 50 или 100 рублей в ведро жестом очень богатого человека, опережая наш фальшивый хор сочувствия… а дальше было самое для нее трудное, но она была человек решительный — не мешкала, не откладывала: на мгновение замирала она перед своей дверью с разностью чашек в руках становилась еще стройнее, даже круглая спина ее становилась прямой, трудно было не поверить в этот оптический обман… и тут же распахивала дверь и впархивала чуть ли не с летним щебетом серовского утра десятых годов той же своей юности: мытый солнечный свет сквозь мытую листву испещрил натертый паркет, букет рассветной сирени замер в капельках, чуть ли не пеньюар и этюд Скрябина… будто репродукция на стене и не репродукция, а зеркало: «Дима! такая жалость, я свою любимую китайскую чашку разбила!..»
Ах, нет! мы всю жизнь помним, как нас любили…
Дима же, мой родной-разлюбимый дядя, остается у меня в этих воспоминаниях за дверью, в тени, нога на ногу, рядом с букетом, род букета барабанит музыкальными пальцами хирурга по скатерти, ждет чаю, улыбается внимательно и мягко, как хороший человек, которому нечего сказать.
Значит, сначала я вижу ее прическу (вернее, гребень), затем — руки (сейчас она помешивает варенье: медный начищенный старинный (до катастрофы) таз, как солнце, в нем алый слой отборной, самой дорогой базарной клубники, а сверху по-голубому сверкают грубые и точные осколки большого старинного сахара (головы), — все это драгоценно: корона, скипетр, держава — все вместе (у нас в семействе любят сказать, что тетка величественна, как Екатерина), и над всей этой империей властвует рука с золотою ложкой — ловит собственное дрожание и делает вид, что ровно такие движения и собиралась делать, какие получились (все это очень живописно: управление случайностью как художественный метод…).
Я вижу гребень, прическу, руки… и вдруг отчетливо, сразу — всю тетку: будто я тер-тер старательно переводную картинку и, наконец, задержав дыхание, муча собственную руку плавностью и медленностью, отклеил, и вдруг получилось! нигде пленочка не порвалась: проявились яркие крупные цветы ее малиновой китайской кофты (шелковой, стеганой), круглая спина с букетом между лопаток, и — нога с прибинтованной тапкой. Цветы на спине — пышные, кудрявые, китайский род хризантем; такие любит она получать к непроходящему своему юбилею (каждый день нам приносят корзину от благодарных, и комната тети всегда как у актрисы после бенефиса; каждый день выставляется взамен на лестницу очередная завядшая корзина…) — Цветы на спине — такие же в гробу.
В нашем обширном, сообща живущем семействе был ряд узаконенных формул восхищения теткой, не знаю только вот, в виде какого коэффициента вводились в них анкетные данные — возраст, пол, семейное положение и национальность. Конечно, наше семейство было слишком интеллигентно, чтобы опускаться до уровня отдела кадров. О таких вещах никогда не говорилось, но стопроцентное молчание всегда говорит за себя: молчание говорило, что об этих вещах не говорилось, а — зналось. Она была на пятнадцать лет старше дядьки, у них не было детей, и она была еврейкой. Для меня, ребенка, подростка, юноши, у нее не было ни пола, ни возраста, ни национальности: в то время как у всех других родственников эти вещи были. Каким-то образом здесь не наблюдалось противоречия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: