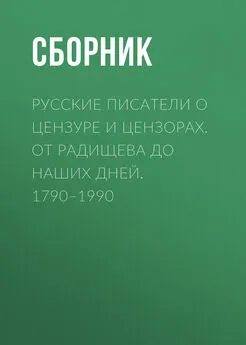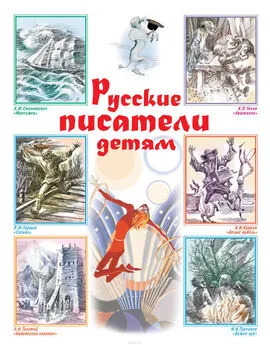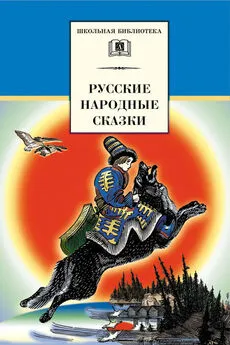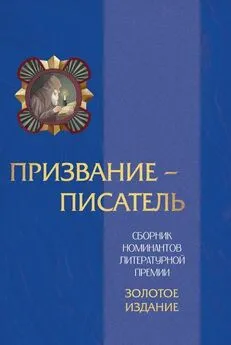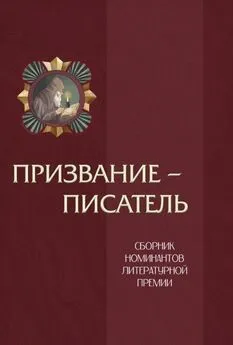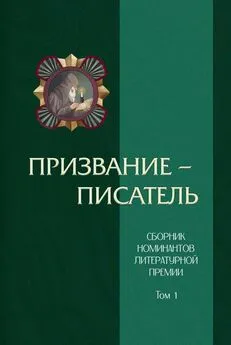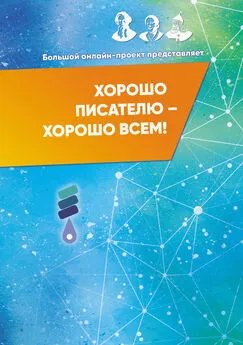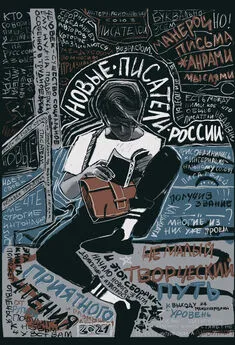Array Сборник - Русские писатели о цензуре и цензорах. От Радищева до наших дней. 1790–1990
- Название:Русские писатели о цензуре и цензорах. От Радищева до наших дней. 1790–1990
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-91868-003-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Сборник - Русские писатели о цензуре и цензорах. От Радищева до наших дней. 1790–1990 краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Русские писатели о цензуре и цензорах. От Радищева до наших дней. 1790–1990 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М., 1986. С. 241). Какое из них – вот вопрос!..
Отношение Пушкина к цензуре затронуто и в его статье «Александр Радищев», которую он столь же безуспешно пытался опубликовать в «Современнике». Касаясь рассуждений Радищева о цензуре, Пушкин замечает: «…он злится на ценсуру; не лучше ли будет потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы, с одной стороны, сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар Божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы; а с другой – чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой и преступной? Но всё это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы – чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью».
Несмотря на такую осторожную тональность, статья вызвала следующую резолюцию министра народного просвещения Уварова (18 августа 1836 г.): «Статья по себе недурна, и с некоторыми изменениями могла быть пропущена. Между тем нахожу неудобным и совершенно излишним возобновлять память о писателе и книге, совершенно забытых и достойных забвения». Через четыре года он же, когда вновь рассматривалась эта статья на предмет разрешения ее публикации в посмертном собрании сочинений, писал: «При рассмотрении этой статьи я нахожу, что она, по многим заключающимся в ней местам, к напечатанию допущена быть не может, и потому предлагаю сделать распоряжение о запрещении её» ( Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И . Указ. соч. С. 107–108).
Характерно, что либеральный профессор и цензор А. В. Никитенко, автор знаменитых дневников, рассматривавший тексты собрания сочинений 1841 г., в числе «сомнительных» текстов указал именно эту главу: «Статья о ценсуре, где автор опровергает разные нападки на необходимость ценсуры». Этот факт точно прокомментирован: «Статья о ценсуре» и «Этикет» (отрывки из «Путешествия из Москвы в Петербург») вызывали сомнение, ибо касались – пусть в «благонамеренном» духе – тех форм социальной жизни, которые вообще не подлежали обсуждению со стороны частного лица» ( Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И . Указ. соч. С. 239). В связи с этим важно заметить, что ни один из текстов, приведенных выше, не увидел свет при жизни автора; иное дело, что « презревшие печать », как сам Пушкин писал в раннем «Городке» о бесцензурных рукописях, они были известны современному ему обществу. Цензурные учреждения, надо сказать, всегда крайне щепетильно и ревниво относились к «чести своего мундира», тем более что в их распоряжении находились эффективные средства, пресекающие любую возможность не только критики, но даже упоминания в печати (как это было в советские времена) самого факта их существования.
Надежды поэта на смягчение цензуры не оправдались. Дневник Пушкина заканчивается словами: «Времена Красовского возвратились. Никитенко глупее Бирукова», а Денису Давыдову он пишет: «В чем провинились русские писатели… Но знаю, что никогда не бывали они притеснены, как нынче: даже и в последнее пятилетие царств<���ования> покойн<���ого> имп<���ератора>, когда вся литература сделалась рукописною благодаря Красовскому и Бирукову».
Как уже говорилось в предисловии, в нашу антологию не входят отрывки из писем, дневников и записных книжек писателей. Если же говорить о Пушкине, то задача эта особенно сложна: отзывы и сужения о цензуре содержатся более чем в сорока письмах. Помимо этого, речь о ней почти непременно заходит в исполненных чувства собственного достоинства письмах, адресованных А. Х. Бенкендорфу как начальнику III Отделения, выступавшему своего рода посредником между Пушкиным и царем (его знаменитое обещание: «Я буду твоим цензором!»). Имеет смысл привести здесь лишь два эпизода, зафиксированных в письмах Пушкина из ссылки, в которых вещи названы своими именами, без оглядки на цензуру. 6 февраля 1823 г. он пишет из Кишинева Вяземскому, напечатавшему в «Сыне Отечества» (1822. Ч. 82. № 49) восторженную статью о «Кавказском пленнике», в которой, между прочим, содержался эвфемистический намек на цензурные купюры в поэме: «<���…> мы, с своей стороны, уговаривать будем поэта следовать независимым вдохновениям своей поэтической Эгерии, в полном убеждении, что бдительная цензура, которую нельзя упрекнуть у нас в потворстве, умеет и без помощи посторонней удерживать писателей в пределах дозволенного» (подробнее см. комментарии Б. Л. Модзалевского в кн.: Пушкин А. С . Письма / Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. Т. 1. 1815–1825. М.; Л.: Госиздат, 1926. С. 267). Пушкин одобрил этот пассаж: «Благодарю за щелчок по цензуре, но она и не этого сто́ит: стыдно, что благороднейший класс народа, класс мыслящий, как бы то ни было, подвержен самовольной расправе трусливого дурака. Мы смеемся, а кажется, лучше бы дельно приняться за Бируковых; пора дать вес своему мнению и заставить правительство уважать нашим голосом – презрение к русским писателям нестерпимо; подумай об этом на досуге, да соединимся – дайте нам цензуру строгую, согласен, но не бессмысленную…» Однако в следующем письме, в марте 1823 г., Пушкин все-таки предупреждает Вяземского об опасности предложенного им совместного выступления: «Твое предложение собраться нам всем и жаловаться на Бируковых может иметь худые последствия. На основании военного устава, если более двух офицеров в одно время подают рапорт, такой поступок примется за бунт. Не знаю, подвержены ли писатели военному суду, но общая жалоба с нашей стороны может навлечь ужасные подозрения и причинить большие беспокойства… Соединиться тайно – но явно действовать в одиночку, кажется, вернее». Свое намерение «действовать в одиночку» Пушкин выполнил, написав первое «Послание цензору», направленное против Бирукова.
В еще более решительной тональности звучит отрывок из письма тому же Вяземскому, посланного из Одессы 4 ноября 1823 г.: «Я выбросил то, что цензура выбросила б и без меня, и то, что не хотел выставить перед публикою. Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными тиснения, то напечатай, сделай милость, не уступай этой суке цензуре, отгрызывайся за каждый стих и загрызи ее, если возможно, в мое воспоминание… Цензура наша так своенравна, что с нею невозможно и размерить круга своего действия – лучше об ней и не думать <���…>»
Резко отрицательно относился Пушкин к цензуре «предшествующего царствования», о чем свидетельствует черновик его деловой записки для Бенкендорфа от июля-августа 1830 г.: «Литераторы во время царствования покойного императора были оставлены на произвол цензуре своенравной и притеснительной – редкое сочинение доходило до печати». Несмотря на все инвективы и филиппики, направленные против гонителей мысли, он все-таки полагал, что без «просвещенной» цензуры государство обойтись не может, что умеренное ограничение свободы печати необходимо – но в строго очерченных законных пределах. Резкая же отмена цензуры, учитывая состояние общества, сразу же обнаружит, выведет на поверхность все то черное и рабское, что таилось до времени и не могло обнаружиться благодаря правительственным стеснениям. Цензура, на его взгляд, мало мешает истинному творцу, но может послужить заслоном против разнузданной журнальной пошлости, против «литературных промышленников», которые начали уже в пушкинские времена заполонять рынок своей продукцией:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: