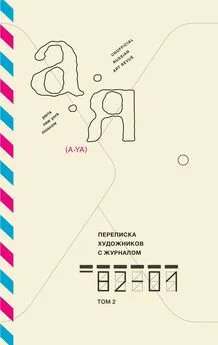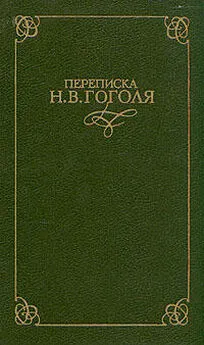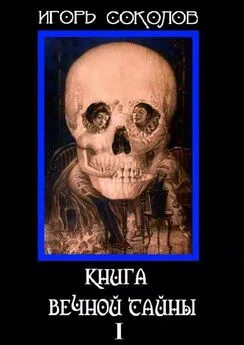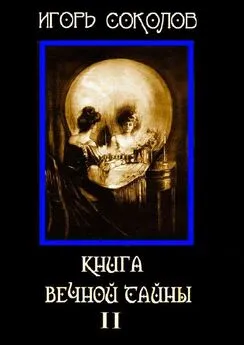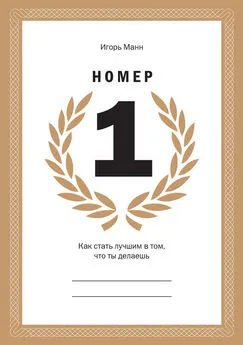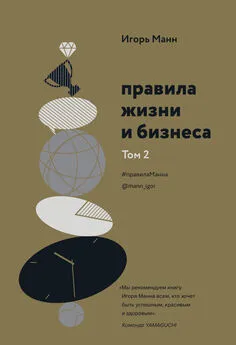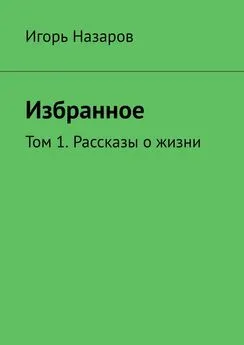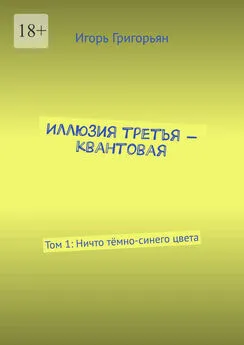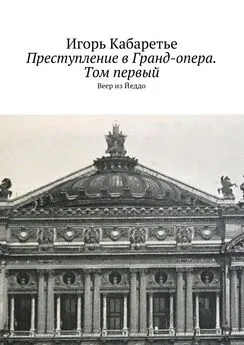Игорь Шелковский - Переписка художников с журналом «А-Я». 1982-2001. Том 2
- Название:Переписка художников с журналом «А-Я». 1982-2001. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1057-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Шелковский - Переписка художников с журналом «А-Я». 1982-2001. Том 2 краткое содержание
Переписка художников с журналом «А-Я». 1982-2001. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
(Очень давно мне случайно попался на глаза клочок газеты начала или середины 20‐х гг., в заметке сообщалось, что создан буквенный алфавит для азербайджанской республики и выпущены первые учебники. Дальше говорилось, что «алфавит составлен на основе латинского, т. к. в будущем мировым языком будет английский язык». Сейчас азербайджанцы пишут свои азербайджанские слова русскими буквами. Интересно было бы установить, когда произошёл этот переход, в каком году. Штрих маленький, но уж очень характерный.) «Культура 2», напротив, замыкается в национальных или государственных границах и своим основным пафосом делает обращение к прошлому. Вспоминаются славные предки, ставятся памятники им («Юрий Долгорукий»), вспоминаются и ставятся в центр культурной жизни классика, фольклор (вместо «Теа-джаза» Утесова звучит хор Пятницкого и Свешникова 6 6 Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого и Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова – российские музыкальные коллективы, исполняющие народную музыку.
). Интернациональные элементы изгоняются или уничтожаются (Германия, СССР). Страна строго изолируется от внешнего влияния. Железный занавес, существовавший с начала 30‐х до 50‐х гг. (а в какой-то степени и сейчас), был призван, прежде всего, преградить проникновение идей и влияний. Слово «космополит» становится синонимом слова «изменник родины». Почти любой контакт с иностранцем становится уголовно наказуемым. (Эстетика соцреализма, вызревшая к началу 50‐х гг., эстетика высотных домов, метро и написанных бригадным методом полотен – уникальное явление в искусстве последнего столетия. Так же как и в своё время русская икона или японская гравюра, этот стиль складывался в полной культурной изоляции, на этот раз изоляции искусственной. Если б этот эксперимент длился ещё лет 50?)
Ну а теперь о самом существенном во всей этой ситуации. «Культура 1» – культура свободного индивида (государство для человека), «культура 2» – культура государства-тирана (человек для государства). Какие бы декларации ни делали представители «культуры 1» (Маяковский, Мейерхольд, Малевич и многие другие), вся эта культура проникнута духом свободы, индивидуализма, дерзаний творчества, самоутверждение личности, капризности и прихотливости, которые всегда входят в живую ткань искусства. «Культура 2» нашпигована мертвечиной догм, создаётся она не столько индивидуально, сколько коллективно, колоссальное развитие получает художественная самодеятельность, которой в будущем предполагается заменить профессиональные театры и оперы.
Шедевры бюрократически планируются и вознаграждаются потом государственными премиями (архитектурные и мемориальные комплексы).
Перебрав многие российские десятилетия, мы обнаружим, что среди тех беспросветных, когда государство свинцовой тяжестью давило на индивида, было два более светлых, условно их можно датировать с 1910 по 1930 гг. Именно в эту эпоху зародилось и развивалось то, что теперь называют русским авангардом. Начало этого периода обусловлено произошедшими в России демократическими преобразованиями, ослабившими государственную узду. Период примерно десятилетний после 17 года можно объяснить тем, что молодое советское государство было настолько слабым, что ему было не до искусства (к тому же преданно именовавшего себя революционным). Как только государство окрепло – лапа была наложена.
Боулт – Шелковскому 16.04.82
Дорогой Игорь!
Ты получил текст интервью с Костаки? Ты думаешь напечатать его? Если да, то я должен чуть-чуть модифицировать два места в тексте (по просьбе Георгия Дионисовича).
С приветом, John
Шелковский – Сидорову 18.04.82
Дорогой Алик! <���…>
Материалы Жигалова получил, даже в двух экземплярах. Один отослал Герловиным, они собираются вставить в какую-то книжку. Слайды Юликова О. [Махрова] не привезла, так же как и твоё письмо с краткими ответами на мои вопросы. Про письмо сказала, что его не было, но после того, как я сказал, что накануне звонил в Москву и узнал о письме от тебя самого, сказала, что да, кажется, было, что она отослала слайды Юликова и письмо с кем-то другим. Статья приемлема, нужны иллюстрации. Достаточно чёрно-белых фотографий. <���…>
Конечно, для цветного воспроизведения надо бы выбрать самые цветные, яркие вещи. Не хотелось бы начинать с работ третьестепенных, с почеркушек. Это всё равно как знакомить публику с автором, печатая обрывки фраз, заготовки из блокнота, варианты. Это можно делать тогда, когда автор уже известен и любим. Сам Фёдор Васильич [Семёнов-Амурский] когда-то ругался на Левитана, что тот раздал никчемные этюдики разным дамам, а те сохранили их и потом выставили, скомпрометировав его как художника. В 29 есть крошечный рисунок тушью: человек поднимается на гору, поросшую деревьями. Дата на рисунке 2-7-59 г. В тот день я приехал к Ф. В. на велосипеде, чтобы позвать его на совместную прогулку. Они жили тогда на Хавско-Шаболовской, а я на Старой площади.
День был летний, цветущий, Ф. В. сидел перед раскрытым окном и любовался на только что сделанные работы, серию чёрно-белых рисунков под стеклом. Меня их свежесть, лёгкость и одновременно законченность так же восхитили. Я сказал, что это действует на меня как стихотворение Есенина. Ф. В. изумился такому сравнению: «Нет, правда, правда? Что вы такое говорите! Ну, так я вам дарю этот рисунок!» Он вложил этот рисунок, сделанный пером и «подушечками двух пальцев», между двух картонок, и я спрятал его в карман куртки.
Мы взяли наши велосипеды и поехали кататься по окраинам Москвы, которые не были тогда ещё так застроены. Проезжали мы каждый раз по 30–40 км, время от времени спешивались, чтобы вести «философские разговоры». В какой-то деревне после захода солнца слушали «концерт лягушек» – у пруда среди пышных деревьев. Один голос выделялся особенно – «изумительно, изумительно, Игорь, это лягушачий Ван Клиберн». Возвращались обычно поздно ночью, с красными лицами, но не усталые. Ехали при свете фонарей, машин тогда было, к счастью, не много. Пешеходы оглядывались на высокого человека в серой рубашке с белым воротничком и чёрным обрубленным галстуком, восседавшего на велосипеде с жёлтыми колёсами. Таких прогулок набиралось по нескольку десятков за лето, приезжал я всегда без приглашения, телефон к ним не провели, и почти всегда заставал его дома, и почти всегда мы брали велосипеды и уезжали кататься. Будь тогда среди нас кто-то третий, кто предсказал бы, где этот маленький рисуночек окажется двадцать три года спустя, – то-то мы удивились бы, то-то было бы между нами разговоров.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: