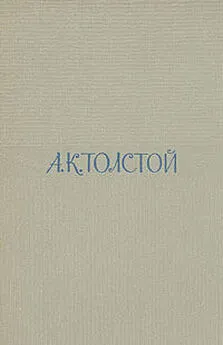Лев Толстой - Том 17. Избранные публицистические статьи
- Название:Том 17. Избранные публицистические статьи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Москва, Художественная литература, 1978-1985
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Толстой - Том 17. Избранные публицистические статьи краткое содержание
В 17 том вошли публицистические произведения Л. Толстого 1886–1908 годов («О жизни», «Царю и его помощникам», «О голоде», «Воспоминания о суде над солдатом» и др.)
http://rulitera.narod.ru
Том 17. Избранные публицистические статьи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Стремление к нравственному суду, сочетание критики и морализаторства — вообще особенная черта Толстого. Она явственно видна в самых первых его публицистических сочинениях: «Проект о переформировании армии» (1855) и «Заметка о дворянском вопросе» (1858).
Участник героической обороны Севастополя, Толстой был потрясен величием духа его защитников и слабостью военной организации, приведшей Россию к поражению. Свой «Проект» он намеревался передать высшему военному, начальству, чтобы, как всегда, «сорвать завесу» с мнимого благополучия. Записка осталась незаконченной.
В ней критически разобраны психологические, моральные черты «православного воинства». Солдаты разделены на три типа: «угнетенные», «угнетающие» и «отчаянные», офицеры — «по необходимости», «беззаботные» и «аферисты»; генералы — «терпеливые» и «счастливые». Эта сосредоточенность на отрицательном проникнута душевной болью за народ, достойный лучшей исторической участи, способный на героические свершения. Об этом героизме духа сам Толстой горячо писал в Севастопольских рассказах, дневниках и письмах того времени.
В замечательном очерке «Как умирают русские солдаты (Тревога)» об этом сказано так: «На лицах солдат и офицера я заметил особенное выражение сознания собственного достоинства и гордости»; и о бесстрашии людей, которые идут навстречу смерти «без хвастовства, без желания отуманиться, спокойно и просто». Заканчивался очерк твердо выраженной уверенностью: «Велики судьбы славянского народа! Не даром дана ему эта спокойная сила души, эта великая простота и бессознательность силы!..» (т. 5, с. 233–236).
В Севастополе Толстому стало ясно, что Россия «или должна пасть, или совершенно преобразоваться» (т. 47, с. 31).
В трактате «Так что же нам делать?», вспоминая времена крепостного права, Толстой писал, что он еще тогда «понял безнравственность этого положения», старался избавиться от него и другим «рабовладельцам» стремился «всеми средствами внушать… незаконность и бесчеловечность их воображаемых прав». Одним из этих средств была «Записка о дворянском вопросе».
Когда же царский манифест был опубликован, Толстой испытал горькое разочарование и писал А. И. Герцену, что это «совершенно напрасная болтовня» (т. 60, с. 377).
Сам Толстой в это время находился за границей. В Ясной Поляне и во всем Крапивенском уезде он открыл школы для крестьянских детей, и надо было знать, как организовано это важнейшее, с его тогдашней точки зрения, дело в других странах. Он много думает сам об этом предмете, разговаривает и переписывается с Герценом, Прудоном — и убеждается, что в деле народного просвещения, как и во всем историческом развитии, России предназначены иные, новые пути. В сущности, теоретические статьи по вопросам педагогики — это размышления Толстого о судьбах России, в сопоставлении с развитием стран Европы и Востока. Те же проблемы будут волновать его и позднее, когда новая революционная ситуация приведет к 1905 году. Сложная, противоречивая, но и оригинальная, во многом — провидческая позиция Толстого заслуживает особого разбора — этому будет посвящена третья глава нашей статьи.
Коренные исторические сдвиги Толстой неизменно связывал с нравственными возможностями каждого человека. Совершаются, должны совершиться большие общественные перемены; проницательный взгляд видит и чуткая совесть предчувствует эти перемены, и нужно уметь соответствовать этим переменам, быть готовым к новой жизни, на новых основах.
В статье «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение» В. И. Ленин писал: «Острая ломка всех «старых устоев» деревенской России обострила его внимание, углубила его интерес к происходящему вокруг него, привела к перелому всего его миросозерцания. По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к высшей помещичьей знати в России, — он порвал со всеми привычными взглядами этой среды и, в своих последних произведениях, обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь». [21] В. И. Ленин . Полн. собр. соч., т. 20, с. 39–40.
Духовная революция, происшедшая в мировоззрении Толстого на рубеже 70-80-х годов прошлого века, соответствовала историческим сдвигам в народной жизни, в общественном сознании и по-своему предвещала будущие революционные взрывы во всем устройстве жизни.
Критическая сила публицистики Толстого в поздние годы, после перелома в мировоззрении, привела к прямому обличению всех существующих порядков в России и во всем эксплуататорском обществе. В его творчестве 1880-1900-х годов, по мере обострения социальных противоречий и приближения первой русской революции, именно публицистика начинает играть особенно большую роль. Одновременно с обличительным пафосом в статьях, трактатах усиливается голос Толстого-проповедника, учителя жизни, моралиста, отстаивающего теорию ненасильственного сопротивления злу и нравственного самоусовершенствования.
Не случаен тот факт, что, подобно «Исповеди» Руссо, родившейся в период французской революции конца XVIII в., столетий спустя, в преддверии русской революции Толстой написал свою «Исповедь».
«Исповедь» — одна из самых глубоких и сильных книг Льва Толстого, книга о смысле жизни и личной ответственности за ее устройство. Она писалась в 1879 г., когда Толстой, пережив мучительный идейный и нравственный кризис, пришел к новому пониманию смысла жизни — своей собственной и каждого человека вообще. Прошлое предстало перед судом возмущенной совести.
К тому времени как «Исповедь» была начата и тяжкие душевные переживания и самое обретение «веры» были позади, Толстой поведал обо всем этом не с целью уяснить вопрос для себя (для него, казалось, вопрос был уже решен), но для того, чтобы разделить с людьми опыт своей жизни, открыть им то, что сам он считал обретенной истиной. Это не только исповедь, но и проповедь. Страстный, горячий голос проповедника слышится в каждой строке книги.
«Исповедь» была преисполнена такой правды, с такой страстью отрицала тогдашнюю официальную религию, что, конечно, напечатать ее оказалось невозможно. Спустя два года Толстой записал: «Но этой книги, в которой я рассказывал, что я пережил и передумал, я никак не могу и думать печатать в России, как мне сказал один опытный и умный старый редактор журнала. Он прочел начало моей книги, ему понравилось. Так как он просил моего сотрудничества, я сказал: так вот, напечатайте. Он поднял руки и воскликнул: «Батюшка! Да за это и журнал мой сожгут, да и меня с ним». — Так я и не печатаю» (т. 49, с. 9).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: