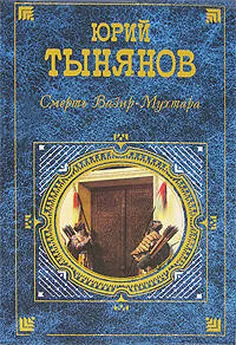Юрий Тынянов - Портреты и встречи (Воспоминания о Тынянове)
- Название:Портреты и встречи (Воспоминания о Тынянове)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Тынянов - Портреты и встречи (Воспоминания о Тынянове) краткое содержание
Творчество Юрия Тынянова в советской литературе занимает выдающееся место — его исторические романы, повести, рассказы, его статьи, его историко-литературные, теоретические и критические работы, его сценарии и переводы — все это богатое наследие писателя продолжает жить в нашей культуре. В настоящей книге своими воспоминаниями о Тынянове делятся такие известные мастера советской культуры, как П. Антокольский и И. Андроников, И. Эренбург и С. Эйзенштейн, К. Чуковский и К. Федин, Л. Гинзбург и В. Каверин, Г. Козинцев и Н. Степанов, Б. Эйхенбаум и В. Шкловский, а также ученики и соратники по работе.
Портреты и встречи (Воспоминания о Тынянове) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
1 «Ковши» — альманах, выходивший в Ленинграде — Сост.
2 Карандаши в тогдашнем Ленинграде были величайшей редкостью. — Сост.
3 Последняя строка явно для рифмы. — Прим. Тынянова
Стихов он писал множество на всякие случаи. Даря мне свою книжку «Проблема стихотворного языка», он сделал на ней такую язвительно-пародийную надпись:
Пока
Я изучал проблему языка,
Ее вы разрешили
В «Крокодиле».
Когда один из столпов Пролеткульта, выступая на эстраде, заявил, что пролеткультовцы, пожалуй, согласны считать (хоть и с оговорками) своим попутчиком Горького, Тынянов записал в мою «Чукоккалу»:
Сатурново кольцо сказало: «А недурно
Теперь в попутчики мне пригласить Сатурна».
К одному литератору, докучавшему нам своими плаксивыми жалобами на непризнание современностью его мнимых заслуг, он в той же «Чукоккале» обратился с двустишием:
Если ты несогласен с эпохой,
Охай.
Версификатором он был превосходным. Это видно по его переводам из Гейне. Правда, лирика Гейне меньше давалась ему, чем сатира... Он, как и его Вазир-Мухтар (в котором он невольно отразил многие черты своей собственной личности), больше всего тяготел к саркастическим «зоилиадам и занозам». Оттого-то он оказался таким силачом в переводе гейневской «Германии».
Последняя книга Тынянова, «Пушкин», вызывает во мне трагические воспоминания. Начал он эту книгу с большим аппетитом, очень бодро и радостно; и когда я, бывало, при встрече спрашивал: «Ну, сколько теперь лет вашему Александру Сергеевичу?» — он отвечал с виноватой улыбкой: «Вот честное слово: написал о нем двести страниц, а ему все еще семь».
Потом, при новой встрече: — Ему уже стало четырнадцать.
Роман был весь у него в голове — капитальнейшая, многотомная книга о Пушкине, но вдруг что-то застопорилось, и я впервые услышал от Юрия Николаевича такое странное в его устах слово: «Не пишется»; он стал просиживать над иными страницами по две, по три недели, и браковал их, и вновь переписывал, и вновь браковал. А потом обнаружилось, что во всем виновата болезнь; и хотя он нечеловеческим усилием воли все еще пытался писать, но эти попытки оказались бесплодными; и когда наконец он окончательно оторвался от своей недописанной книги, это для него значило: смерть.
1958
Лидия Гинзбург
ТЫНЯНОВ-УЧЕНЫЙ
Тынянов-ученый, рано уступив дорогу Тынянову-романисту, не реализовал до конца запас своих мыслей. Он написал меньше, чем продумал. Вот почему научное дело Тынянова особенно отчетливо раскрывалось перед теми, кому довелось с ним общаться, перед его учениками, слушателями его лекций. Я принадлежу к их числу.
В 20-х годах Тынянов читал лекции — историю русской поэзии — в Ленинграде, на Высших курсах искусствоведения при Государственном институте истории искусств. Читал он их сначала на Галерной, потом в «Зубовском доме» на Исаакиевской площади. Слушать Юрия Николаевича сюда приходили не только всех поколений студенты Высших курсов, но и студенты университета, и даже вовсе не студенты.
То, что я хочу рассказать о Тынянове-ученом, основано и на печатных его трудах и на этих навсегда памятных впечатлениях студенческой и аспирантской поры.
Я не собираюсь развернуто говорить о научных положениях Тынянова и о выводах, к которым он пришел (это особая тема), но о том, как он обращался с предметом своего изучения. Я пробую восстановить какие-то черты Тынянова-исследователя. Но ведь это и черты Тынянова-человека — он был очень целостен в своих творческих проявлениях. Уже многое сказано о тесной связи его романов с его литературоведческими трудами. Друзья (Каверин, Степанов, К. Чуковский) вспоминают об особом артистизме, отличавшем Тынянова в науке и Тынянова в быту, — с его имитациями окружающих, с его рассказами в лицах о людях далекого прошлого, рассказами столь непосредственными и личными, как если бы и это были люди сегодняшнего его окружения. Но Тынянов в быту был не только артистичен; в частном с ним разговоре — на разные темы — мы узнавали все то же напряженное наблюдение, неожиданные ходы резко аналитической мысли.
Есть ученые разного типа, Тынянов по всему своему складу был изобретателем, открывателем. Помню, как на научных заседаниях, обсуждениях мы ждали, когда же заговорит Тынянов; иногда он долго молчал. Ждали поворота. Вот он заговорит, и факты переместятся, предстанут в новом соотношении, непредвиденном и очень точном.
Он и писал только тогда, когда сознавал эту возможность открытия, поворота. Это относится и к большим его работам (относительно большим — он был немногословен) и к статьям даже самым кратким. В работах Тынянова всегда есть своего рода научный сюжет, развязка, решение задачи. Но отнюдь не в порядке игры ума, парадоксов. Все, напротив того, питается упорной черновой работой. Подготовительную работу Тынянов не обрушивал на читателя. Читатель видел совсем другое — незаменимую связь изучения литературы с самой литературой, с артистическим пониманием литературы прошлых лет, с острым интересом к проблематике литературы современной. Читатель безошибочно чувствовал, что этот ученый — сам участник литературного процесса 20— 30-х годов.
И еще об одной черте Тынянова хочется сказать сразу. Идеям его была присуща не бесспорность, не неотменяемость (такого не бывает), но применимость, очень долговечная и прочная. Есть мысли, и очень существенные, которые действуют по прямому назначению и вообще по прямой от учителя к ученику. И есть расходящиеся кругами; они обладают способностью влиять в разных контекстах и на больших расстояниях от предлагающей их статьи или книги. Так было с идеями Тынянова. Они порождали новые соображения, применялись и проверялись на практике. Причем на материале, самим Тыняновым еще не обследованном. Пересаженная в новую среду, концепция продолжала работать и приносить новые результаты.
Есть опасность, от которой хочется предостеречь. Наследство замечательных ученых воспринимается нередко в виде отстоявшихся, заведомо известных читателю формул. Для иных молодых филологов тыняновская «Проблема стихотворного языка» — это теснота и единство стихового ряда; и все. Формула — и в самом деле очень важная — поглотила многообразие идей, способных активно жить и работать, вступая в непредвиденные соотношения. Нужна не канонизация выхваченных из контекста формул ученого, а непредрешенное прочтение его трудов, включение его мыслей в новые исследовательские связи. Это относится не только к трудам Тынянова.
Статья Тынянова «Архаисты и Пушкин», начатая в 1921 году и завершенная в 1924-м, была напечатана после «Кюхли», в 1926 году (сборник «Пушкин в мировой литературе»), но ученики Тынянова уже знали тыняновскую трактовку декабристской литературы из его выступлений и лекций 1922— 1924 годов, из наших с ним разговоров. И мы восприняли «Кюхлю» как переключение в другой регистр долгого исследовательского труда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: