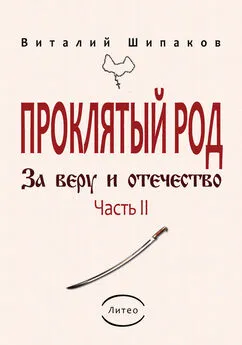Иван Рукавишников - Проклятый род. Часть III. На путях смерти.
- Название:Проклятый род. Часть III. На путях смерти.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Нижегородская ярмарка
- Год:1999
- Город:Нижний Новгород
- ISBN:5-89259-020-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Рукавишников - Проклятый род. Часть III. На путях смерти. краткое содержание
Рукавишников И. С.
Проклятый род: Роман. — Нижний Новгород: издательство «Нижегородская ярмарка» совместно с издательством «Покровка», 1999. — 624 с., илл. (художник М.Бржезинская).
Иван Сергеевич Рукавишников (1877-1930), — потомок известной нижегородской купеческой династии. Он не стал продолжателем фамильного дела, а был заметным литератором — писал стихи и прозу. Ко времени выхода данной книги его имя было прочно забыто, а основное его творение — роман «Проклятый род» — стало не просто библиографической редкостью, а неким мифом. Было известно, что такой роман существует, но его практически никто не читал по причине крайней редкости.
Настоящее издание исправляет эту историческую несправедливость, поскольку роман достоин того, чтобы его читали и знали.
Проклятый род. Часть III. На путях смерти. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
- Да чего они не поладили?
- Эх, разное тогда говорили. С тем, что ли, она тогда спуталась? Как его? Годов этак шесть здесь, в Лазареве, помер. Молоденький, Макара, кажись, второй сынок.
- Ан третий. И врут все. Хворый он был. Из дому, почитай, не выходил, а не то что шашни, либо что. Да она ведь ему тетка, Дорофея-то...
- А что я слыхивал, братцы... Он будто руки на себя наложил.
- Ишь, выискался! Не ты один слыхивал. Да врет, поди, народ.
- Нашего народа на то взять. А того бариночка видывал я в Лазареве да и в Богоявленском. Тихий да ласковый. Антоном Макарычем звать.
- Все они до поры ласковые. Про того что говорить. Мальчонком Бог прибрал.
- Правильно. До поры тихонькие, а потом и пойдут крутить, всяк на свой манер. Вот, скажем, нынешний лазаревский...
- Это Виктор Макарыч? Редконько он нос сюда кажет...
Заслышав о себе слова, Виктор встал, пересел подалее от двери. На станции лошадей ожидал, чтоб ехать в Лазарево. С пути депешу послал, там нарочным. Минут через, двадцать здесь будут.
«Доррфея,.. Дорочка... Как редко вспоминалась... Да, Антон. Бедный мальчик... Или ты счастлив был...»
Над столом склонившись, уши ладонями зажав, сидел тусклый, гнал от себя гомон слов тех вон проезжих людей в теплых треухах, мещан ли, мелких ли торговцев. В окна не смотрел, не хотел видеть белого снега, будто извечно здесь молчащего под далеким, под прозрачным небом, не таящим тайны.
«Дорочка… Дорочка... Птичка... Крылья ей подрезали, и забыла она и про небо, и про чудо песни души. И я вот тебя забыл. Не забыл, но... Дорочка, птичка. И хоть бы клетка-то золотая была. Да, разные бывают клетки. А то еще так бывает: поймет душа свободу, полюбит свободу бескрайнюю, белую, и взлетит-взнесется, и стукнет-заденет крылом обо что-то. Как страшны тогда прутья клетки человечьей вселенной. Незримая сталь. Насмерть бьющее ничто. Непускающая к Богу решетка разума ли наглого, незнание ли».
Не заметил, как мысли по другому руслу потекли.
«Юлия... Зоя... Зачем встретился с ними опять?»
Петербургские дни замелькали, зазвенели, из мглы недавнего всплыв.
«Та говорит, что любит, и любовью глаза ее горят, и подчас душа ей отвечает словами настоящими. А та явно ревнует. Скучно. К чему все!»
Судорога по лицу Виктора молнией. Вспомнились еще встречи. С той, с Дарьей Николаевной. Развелась с мужем. Приходила, себя потерявшая, слова страсти разогретой говорила. В глазах мгла необманной старости. И о том говорила, о деле освобождения. И не было веры в словах. И когда говорила, ломая руки, о поражениях, о смертях и тюрьмах, и потом сразу о своей неумирающей любви, хотелось плакать. Но были бы то слезы житейского ужаса.
«Старуха! Старуха!»
Судорога молнией опять. Вспомнились руки прекрасные и после-ночно-дряблое лицо с тяжелыми веками темнеющими.
- Ишь! Лазаревские кони. Ты, Митрофан, кого встречать?.. Да нешто он здесь?
- Барин, пожалуйте. Лошади ожидают.
Воротник дохи подняв, прошел, на людей не глядя. Забелело. Морозно-солнечные стрелы. Спать ли хотелось, мчаться ли так в бело-морозное долго-долго, и не туда, в это Лазарево, которое, казалось, так любил смутно-солнечными воспоминаниями детства, и которое теперь - ну к чему оно?
Ленивой мыслью понял:
«Да. Из Петербурга бежал. От тех».
И принудил себя дремать.
Когда налево, невдалеке, поверх серебряного перелеска повиделась голубая церковка монастыря, вспомнилась-предстала опять неведомо почему Дорочка. Испуганно заглянула в глаза; но будто не в глаза человечьи заглянула, а в жизнь. Заглянула. И растет ужас взора. Вдруг поцеловала, ликующе засмеялась, будто с солнцем поздоровалась. На миг. Облако тоски ли неизбывной, сна ли. Объятия рук распались. Отошла-уплывала туда, за перелесок, за церковку голубую, дальше еще, туда, где мерячут над полем вороны, черные птицы белой русской зимы. И последне-видимый взор Дорочки глянул тусклый, неузнающий, но жизненно спокойный, примиренный.
- Ах, скука жизни!
И когда еще оглянулся, туда поглядел, увидел: будто не облачко там, за крестом подкупольным, будто лицо брата Антона. Бледное, плачущее лицо расплылось на далеко; темные глаза ищут, ищут. Потускнели. Закрылись.
Ворона ли крикнула:
- Рай! Рай!
И кто ей ответил:
- Где? Где?
Бело все.
«А долог ли будет мой этот приезд? И краски вот забыл взять».
- Слушай, как тебя... Митрофан, в Богоявленском есть краски? Не малярные, а в трубочках в таких; те, которыми картины красят. А?
- Не могу знать. Должно, что нет. Когда церкве ремонт был, в те поры из Москвы...
- Ну ладно. Подгони-ка. Меня в Лазареве не ждут?
- Не ожидали, не ожидали, барин.
- В большом дому работы как? Не заметил?
- Ни к чему мне, барин. А только, надо быть, спорится. Потому... Да вот про краски вы, барин, изволили... так у того, у живописца, красок всяких...
- Не те. Ну-ка, подгони.
- И то! Эй, вы... с горки-то...
Птицы черные и сине-серые вблизи, вдали мерячили. Колокол церковный впереди где-то ударил раз. Верно, в Лазареве то. Подумалось:
«Мглисто-белый простор этот под шатровым сводом, под морозным, как дом молчащего, незримого Бога. Восседает на троне льдистом, глядит - величавый, бесстрастный».
Колокол еще вздохнул там, впереди. Закрыл дремотно глаза Виктор. И другое еще повиделось: у трона льдистого под десницею бесстрастного стоит одетый в звон колокольный, человековидный с очами скорби. Но очей тех, к нему воздетых, не видит бесстрастный, сидящий на троне льдистом. А под десницею его, там внизу, по лицу внизу стоящего текут слезы. Текут и замерзают. И слезы те - одежды того, который с очами скорби. А холодные вихри, бесцельно переметающие снег, - думы сидящего на троне. И от вихрей тех звоном колокольным звенят-шепчут ризы того, у трона под десницею стоящего, того, который очами скорби видит дом своего Бога.
Вздохнул-ахнул колокол там, впереди. Зазвенели-заплакали-зажалобились ризы. Открыл Виктор глаза. Оглянул белый простор опустевший. И трон льдистый пропал-провалился, и все. Будто разбудил кто словом близким. Сразу опять вспомнилась Дорочка.
VIII
Немало уж дней по комнатам Лазаревского дома бродил. На леса взбирался под высокие потолки. Лепные фризы - вот они и близкие так же чарующе-ласковы. В десятилетиях пожелтевший гипс, в наивно правдивую жизнь отлитый, бессменно радуется детками - амурами своими, непугающими грифонами, струящимися розами, лилиями. Роспись стен во многих комнатах запоздала: оказалось, что потолочные балки кое-где подгнили. Тянулась осторожная работа, крадущаяся. Пилили драгоценный гипс, пластами снимали. Ржавые костыли крепко держали. Тогда высверливали. Где можно, подводили железные балки. Не гремя, не задевая, плавно ворочаясь на цепях полиспастов, укрепленных на чердачных стропилах, двигались длинные балки, три слитых в мощь полосы, каждая порознь бессильная. В глубокие гнезда ложились концы, чтоб замурованными похорониться там уже до конца дней.старого дома.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: