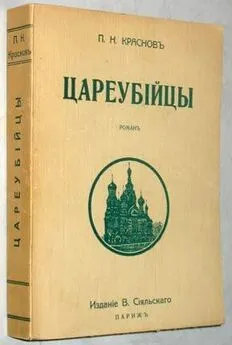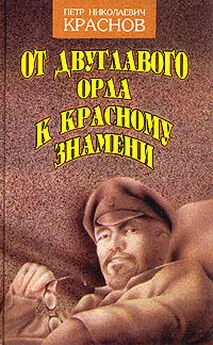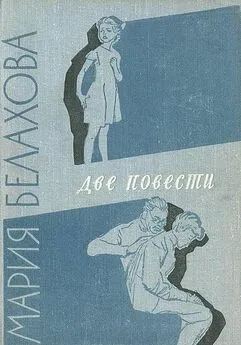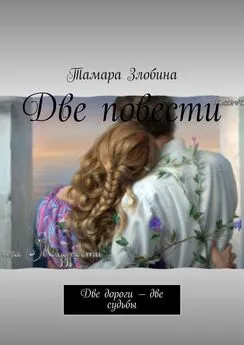Петр Краснов - Две повести. Терунешь. Аска Мариам
- Название:Две повести. Терунешь. Аска Мариам
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Краснов - Две повести. Терунешь. Аска Мариам краткое содержание
Петр Николаевич Краснов (1869–1947) — в российской истории фигура неоднозначная и по-своему трагическая. Прославленный казачий генерал, известный писатель, атаман Всевеликого Войска Донского, в 1918 году он поднял казаков на "национальную народную войну" против большевиков. В 1920 году Краснов эмигрировал в Германию. В годы Второй мировой войны он возглавил перешедшую на сторону вермахта часть казачества, которая вслед за атаманом повторяла: "Хоть с чертом, но против большевиков!"
Две повести. Терунешь. Аска Мариам - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— И ты ничего не помнишь, что я говорилъ тебѣ? — съ упрекомъ сказалъ Панаевъ.
— Нѣтъ, гета… — напрягая память и забавно, какъ маленькая обезьянка, наморщивая лобъ, проговорила Марiамъ. — Я помню: ты говорилъ про Парижъ.
— Парижъ! — воскликнулъ Панаевъ. — Парижъ, вотъ ты знаешь Парижъ! — лучъ надежды блеснулъ въ его измученномъ мозгу. Откуда ты помнишь это слово?
— Ты францизъ, гета, а не московъ, — сказала Марiамъ и насмѣшливо погрозила пальцемъ, какъ будто поймала его въ обманѣ.
— Съ чего ты взяла? — сказалъ онъ, раздосадованный тѣмъ, что она не отвѣтила на его вопросъ.
— Ты такъ обрадовался, когда заговорилъ про Парижъ.
— А, нѣтъ! Это совсѣмъ не то! Откуда ты слыхала про Парижъ.
— Меня монсиньоръ училъ, и отецъ Августинъ тоже.
— Какой монсиньоръ, какой отецъ Августинъ? — въ недоумѣнiи спросилъ Панаевъ, въ свою очередь, стараясь вспомнить, не было ли въ жизни Нины Сергѣевны какого-нибудь монсиньора или Августина.
Но нѣтъ, не было!
Марiамъ не спѣша отвѣтила.
— Монсиньоръ, толстый и съ бѣлой бородой. Августинъ тонкiй и съ черной бородой.
— Гдѣ ты ихъ видала?
— Они учили плѣнныхъ дѣтей въ Харарѣ. Они хотѣли, чтобы всѣ были католики, а абиссинцы хотѣли, чтобы всѣ были христiане.
— Ну и ты? — все болѣе и болѣе разочаровываясь, спросилъ Панаевъ.
— Я христiанка, — гордо сказала она и, отстегнувъ воротъ рубахи, показала грубое подобiе креста, сдѣланное изъ мѣди и болтавшееся на грязномъ кожаномъ снуркѣ.
Панаевъ не спрашивалъ больше. Мысли копошились и ходили въ его головѣ, голова, казалось, раскалывалась отъ этихъ мыслей, отказывалась соображать и взвѣшивать.
— Какой вздоръ! — сказалъ онъ самъ себѣ! — Чего я ищу? Это не путешествiе, способное успокоить нервы, а это растравливанiе нервовъ. До чего я съ этимъ дойду! Одному Богу извѣстно.
Онъ вышелъ изъ палатки и остановился, глядя на чудное звѣздное небо.
Вслѣдъ за нимъ вышла и Марiамъ. Она долго просительно, какъ собака, смотрѣла на Панаева и потомъ робко дотронулась до его рукава.
— Что такое? — спросилъ онъ рѣзко.
— Гета, — робко сказала дѣвушка, — бакшишъ!.. — Онъ вынулъ изъ кармана талеръ и далъ ей. Она скорымъ шагомъ пошла къ своей деревнѣ.
VII
Прошло около недѣли съ того дня, какъ Панаевъ первый разъ увидалъ Аска Марiамъ. Онъ не бродилъ больше по улицамъ Харара, не всматривался пытливо въ лица проходившихъ мимо женщинъ и дѣвушекъ, не искалъ свой призракъ. Какъ ни страненъ былъ его сонъ, но онъ былъ все-таки только сонъ, и смѣшно было искать его наяву. Довольно и того, что онъ видѣлъ во снѣ такъ ясно африканскiй пейзажъ и древнiй городъ, въ которомъ никогда не бывалъ. Но мало-ли чего не бываетъ на свѣтѣ?! Развѣ не снились ему и раньше положенiя, которыя потомъ являлись наяву, не видѣлъ онъ различные дворцы и сады, отчего не ищетъ онъ ихъ, какъ искалъ свой африканскiй городъ? Сновидѣнiя еще не вполнѣ изслѣдованы наукой; и лучше оставить вѣщiе сны старымъ бабамъ, а не разстраивать ими и безъ того расшатанные нервы. Такъ онъ думалъ и исподволь снаряжался домой, опять въ песчаную сомалiйскую пустыню, полную опасностей для жизни, знойную и безводную.
Аска Марiамъ заходила къ нему каждый день. То она приносила ему нѣсколько банановъ, то инжиру своего приготовленiя, то особыя лепешки изъ полусырого темнаго тѣста, которыя она называла «дабо». Онъ дарилъ ей мыло, бѣлую матерiю на ея шаму, бусы и амулетки. Онъ заставилъ ее выкупаться и все тѣло обмыть мыломъ, надушилъ ее духами, запретилъ мазаться гнилымъ коровьимъ масломъ.
Она стала привлекательнѣе, нѣжнѣе, въ ней пробудилось даже кокетство своего рода. Но всетаки ничто, ничто не напоминало ему Нины Сергѣевны. Иногда онъ самъ смѣялся надъ своимъ сумасбродствомъ. Душа его нѣжной, вѣчно надушенной Нины въ тѣлѣ, пропитанномъ масломъ, пылью и потомъ, въ тѣлѣ, по которому бродятъ мирiады блохъ и отъ котораго такъ скверно пахнетъ!
И самъ не понималъ онъ зачѣмъ, онъ душилъ духами, мылъ одеколономъ эту маленькую дѣ-вушку, слѣдилъ за ея чистотой. Первые дни она спокойно сносила его выговоры за грязныя руки и ноги, за не мытую шаму, непричесанные волосы; она говорила только: «Хорошо, гета, я завтра умоюсь», и приходила на другой день свѣжая, чистая, надушенная. Потомъ эти замѣчанiя конфузили ее, и нѣкоторый лоскъ сталъ прививаться къ ней.
За первой недѣлей прошла вторая, третья, а палатка Панаева все также стояла у городскихъ воротъ, и онъ никуда не уѣзжалъ. Маленькая дикарка незамѣтно привязала его къ себѣ, втерлась ему въ душу и, самъ не отдавая себѣ отчета почему, — онъ скучалъ безъ нея.
Однажды онъ раскладывалъ при ней свой чемоданъ и досталъ оттуда карточку Нины Сергѣевны.
— Узнаешь? — спросилъ онъ ее, пытливо вглядываясь въ лицо Марiамъ и все еще надѣясь, хоть и сознавая, что надежда его — безумiе.
Марiамъ медленно взяла карточку изъ рукъ Панаева и долго разглядывала.
— Нѣтъ, гета, тихо сказала она, — это совсѣмъ бѣлая женщина, я никогда не видала совсѣмъ бѣлой женщины, — и она опять стала внимательно разглядывать фотографiю.
— Какъ она хороша! — сказала она. — Она навѣрно жена негуса или кого-нибудь изъ
расовъ. Какъ бы я хотѣла походить на нее!
— Зачѣмъ?
— Можетъ быть ты бы полюбилъ меня, гета, тогда. Сталъ бы веселѣо, добрѣе.
— Ну, и что же дальше? — холодно спросилъ онъ, любуясь ея смущенiемъ.
— Ты бы купилъ меня и взялъ съ собою! Я бы ходила за тобой, какъ твой ашкеръ ходить. Носила бы твое ружье, сѣдлала бы твоего мула, мыла твои шамы и пекла тебѣ инжиру.
— А теперь что ты дѣлаешь?
— Теперь я толку зерно въ деревянной ступѣ каменнымъ пестомъ и приготовляю муку. Мы военноплѣнные раса, и расъ насъ содержитъ. Купи меня у него.
Панаевъ промолчалъ.
Когда Марiамъ ушла, онъ вышелъ изъ палатки и долго смотрѣлъ на облитый луннымъ свѣтомъ городъ, составленный изъ четыреугольныхъ домовъ безъ крышъ, на плантацiи кофе, на причудливыя очертанiя горъ. И вдругъ звукъ женскаго голоса поразилъ его. Пѣли близко, почти рядомъ, на утесѣ. Пѣсня тягучая, переливистая и однообразная журчала и звенѣла, подобно ручью, перепрыгивающему съ камня на камень среди необъятной пустыни; мотивъ начинался, обрывался, начинался снова, пропадалъ въ безконечныхъ извилинахъ, внезапно нарождался вновь, чтобы снова погибнуть, не высказавшись вполнѣ. Это была мелодiя безъ словъ, пѣсня вѣчной рабыни, пѣсня страны, гдѣ всегда день равенъ ночи, солнце свѣтитъ ровно, нѣтъ порывовъ, нѣтъ страстей. Пѣсня катилась и вилась, обрывалась и снова катилась, какъ тихо идетъ и жизнь раба галласса, отъ жатвы до жатвы, отъ войны до войны, отъ одного господина къ другому. Будто жаловался этотъ голосъ на суровую судьбу, на скуку жизни безъ людей, на тяжесть жизни для другихъ. Пѣвшiй мелодiю голосъ былъ тонокъ, музыкаленъ и прiятенъ. Мелодiя тянулась часъ за часомъ надоѣдливая, какъ мысль въ безсонную ночь. Она звучала, не переставая, въ тиши темной ночи, бесѣдуя со звѣздами, откликаясь лунѣ. Страшно дѣлалось отъ этой пѣсни, вставали цѣлые мрачные вѣка цѣпей, рабства, позора и смерти. Христiанство еще не скрасило этой мрачной и одинокой жизни, не смирило тоскующую душу, и душа плакала, всю ночь надрывая сердце Панаеву, вселяя въ душу его непонятную тоску и страхъ.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: