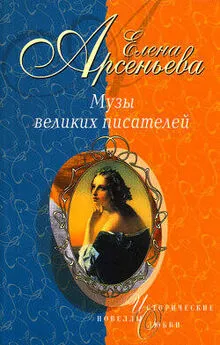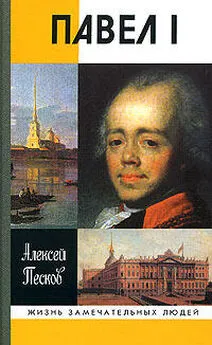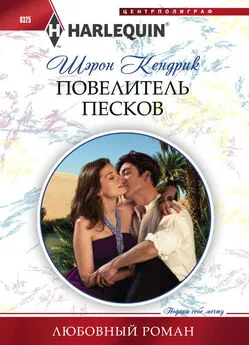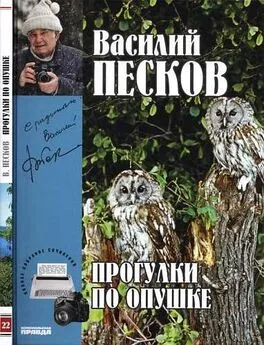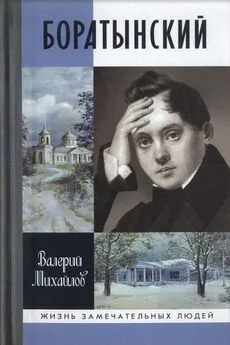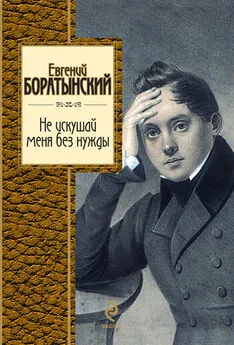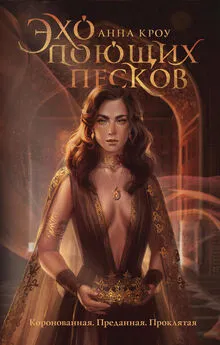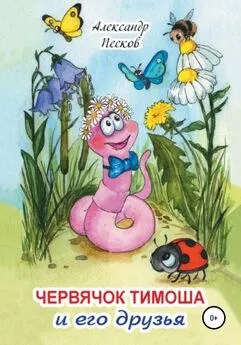А Песков - Боратынский
- Название:Боратынский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А Песков - Боратынский краткое содержание
Биографическая повесть о Е.А.Боратынском — опыт документального исследования, стилизованного под художественное произведение. В книге показаны эпизоды из жизни поэта в свете его мироощущения и в контексте его эпохи, для чего привлечены новые архивные материалы.
Боратынский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда Боратынский попадал в Петербург (а провел он там из 69-ти месяцев своего финляндского изгнания в общей сложности около 24-х месяцев), он чаще прочих виделся, разумеется, с Дельвигом, а также с другими ровесниками — или по возрасту или по времени их поэтической славы (так, летами старшие Козлов и Рылеев стали известны в ту же пору, что и он). Старшие — Жуковский и Гнедич — были старшими во всем. Один совершил эпоху в поэзии, извлек из нашего языка язык души, нашел слова для изъяснения внутренней жизни, и, кто бы ни писал теперь о себе, о своей душе, будет писать на языке Жуковского, пусть усовершенствуя и изощряя, — но все Жуковский будет учитель: и через сто лет. Другой вершит для России "Илиаду", и некому с ним соперничать, и имя Гнедича канет в Лету, только когда забудут, кто такой Гомер. — Жуковский и Гнедич не могли не видеть в нем младшего — по летам и поэзии.
Конечно, и с Вяземским невозможны те близкие сердцу разговоры, какие были с Дельвигом, с Коншиным, с Путятой. Но Вяземский, сам из поколения Жуковского и Гнедича, принял его как равного, как близкого, наконец, как брата по святому ремеслу — поэтическому делу. Вяземский не был очевидцем его финляндского изгнания и не мог на расстоянии почти в тысячу верст ощущать Финляндию главным наполнением жизни Боратынского. Он и знал, и помнил, и сострадал заочно, но до сих пор чувствовал его поэзию вне его самого (поначалу даже весьма скептически относился к нему и летом 822-го года высказывал нечто ироническое). И теперь, когда освобождение из Финляндии перестало быть главным жизненным делом Боратынского и когда сразу, без предисловий, Вяземский встретил Боратынского как поэт — поэта, это могло только еще более внутренне утвердить его, несмотря ни на какую московскую скуку и тоску пребывания подле маменьки, в том, что первая цель его новой жизни — только Поэзия.
* * *
Прочие московские литераторы и журналисты имели о нем более смутное представление, хотя, конечно, о судьбе его были извещены, и стихи знали, и с сатирическими выходками — вроде Сомова безмундирного и певцов 15-го класса — были знакомы. Но москвичей он до сих пор не задевал, кроме Шаликова (да и то сколько лет назад [Но кто ж Шаликова не задевал?]), а ведь иные москвичи вполне были на стороне благонамеренных и против союза поэтов: Каченовский еще в 822-м году радостно напечатал в "Вестнике Европы" некоторые стихи Федорова, а Загоскин тогда же вослед Федорову язвил моду на сладострастие и вакхические вкусы. Но все-таки в Москве недостаточно представляли, с кем Боратынский заодно. — Иначе ему не приписывали бы невероятные вещи. — Как то:
"В Петербурге прозвали Вяземского неистовым Роландом; а Баратынской написал на него два куплета прекрасные! В первом говорит, что есть у нас граф, который пишет неудачно; второй — почти так: Хоть Граф и Князь не все есть то же; Однако ж есть у нас и князь, Который несколько моложе, Но посидевши, потрудясь, На Графа пишет он похоже!
Не помню стихов и изломал их; но содержание или смысл тот, только как-то сказано живее". (Это Михайло Дмитриев рассказывает весной 824-го года последние литературные новости Михаиле Загоскину.)
Граф — это Хвостов; но, чтобы сравнивать Вяземского с Хвостовым, — надо быть, конечно, Михаилом Дмитриевым. Мы полагаем, что это сущая клевета, и если Боратынский и сочинил некие куплеты, услышанные в Москве, то уж, верно, не про Хвостова и Вяземского, а про Хвостова и еще раз про Шаликова, который, на беду, тоже был князь.
* * *
С 825-го года в Москве начал выходить новый журнал — "Московский телеграф". Его издателя — Николая Полевого, человека с виду весьма дельного, из купцов, и бойкого на язык (особенно на письме), — Боратынский видел только раз, наверное, летом 824-го года ("он мне показался энтузиастом вроде Кюхельбекера. Ежели он бредит, то бредит от доброй души, и по крайней мере добросовестен"). Вяземский сильно надеялся на журнал Полевого и в этой надежде нашел, безусловно, согласие с Боратынским (тот, еще год назад узнав в Гельзингфорсе о выходе первых номеров "Телеграфа", писал к Козлову: "Гречи, Булгарины, Каченовские образуют триумвират, который правит Парнасом… надо бы поддержать журнал Полевого… Поговорите о том с нашими, я в самом деле все это принимаю близко к сердцу").
Кроме того, в Москве были такие сочинители, для кого уже Боратынский оказывался старшим во всех отношениях. Вот университетский Погодин (Вяземский говорит, что, по-видимому, хороших правил) выпустил альманах "Уранию". Сам Боратынский дал туда два стихотворения. Но в основном в "Урании" молодые московские: Шевырев, Ознобишин, Веневитинов, Тютчев. Он пока ни с кем из них не знаком, но наслышан, что московская молодежь помешана на трансцендентальной философии.
"Уранию" он послал Пушкину в Михайловское. Московская молодежь тронула в нем то, что доселе робело оформиться в формулу поэтического дела: Нам нужна философия.
Философия нужна нам, потому что философия и поэзия вышли из одной первобытной стихии души: видеть за вещным бытом вечное бытие. И никакая философия не наука, ибо бывают ли науки, имеющие в своем основании чистую гипотезу ума? — неважно, что именно утверждает гипотеза: первосуществование духа или плоти, — она, в сущности, есть только поэтическая метафора. Мы не знаем, откуда мы пришли и куда уйдем, а все тщимся устанавливать законы бытию. Дело философа, дело поэта — не проповедь, предписывающая верить в дух, в плоть или в вещь, а облечение тайн вечного бытия — в мыслящее слово, выраженное гармоническим звуком. И поэтического мира Огромный очерк я узрел, И жизни даровать, о лира! Твое согласье захотел.
Словом, парят поэты над землей… Но узки грани и жизни, и поэтического мира; но нет вечного согласья, вечного блаженства. Это лишь мгновеньями в самом себе блажен поэт. А после… Куда устремляется его крылатый вздох? Мир я вижу как во мгле; Арф небесных отголосок Слабо слышу…
Через двенадцать лет один из нынешней, 826-го года, московской молодежи — Николай Мельгунов — выведет ту формулу поэзии Боратынского, которую впоследствии станут повторять многие и многие. "Баратынский, — скажет Мельгунов, — по преимуществу поэт элегический, но в своем втором периоде возвел личную грусть до общего, философского значения, сделался элегическим поэтом современного человечества. "Последний поэт", "Осень" и пр. это очевидно доказывают". Очень лаконически и умно скажет Мельгунов, и мы с удовольствием вторили бы ему. Но за окном — февраль 826-го года. Метель. Боратынский с тревогой ждет решения о своей отставке, с нетерпением — выхода "Эды" и "Пиров", учится пить чай по-московски — из стаканов, читает с Вяземским "Разные стихотворения" Пушкина, вышедшие месяц назад из печати, немножко выезжает в московский свет, уже не особенно прислушивается к колокольчикам проезжающих мимо его дома, вспоминает Гельзингфорс, но уже глуше и глуше. Новые обстоятельства в ближайшие недели должны вторгнуться в его московскую жизнь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: